

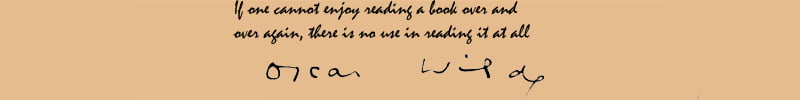
Толмачев В.М. Оскар Уайльд и символизм в Англии
Наступление эпохи рубежа веков в Великобритании (1890-е годы) тесно связано с движением эстетизма. Эстетизм и дендизм возникают как реакция на викторианство, на позитивизм, дарвиновское учение, работы Г. Спенсера. Эстетство заявляет о себе не только в литературе и живописи, но становится также стилем жизни. Отсюда — культ яркой индвидуальности, противопоставляющей себя повседневности викторианского быта. Своеобразно понятая формула «красота спасет мир» стала девизом «желтых девяностых». Они были названы так по названию эстетского журнала «Желтая книга» (The Yellow Book). Желтому цвету придавал большое значение и Оскар Уайльд, для которого он стал символом вызова общественному мне-нию, борьбы за эстетическое обновление искусства.
Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд (Oscar Fingal O’Flaherthie Wills Wilde, 1854— 1900) родился в Дублине, 6 октября 1854 г. Его отец сэр Уильям Уайльд — врач-офтальмолог, удостоенный звания Королевского глазного хирурга и рыцарского титула. Мать Уайльда леди Джейн Френсис Уайльд была эксцентричной, экзальтированной дамой; в юности она писала стихи и была большой патриоткой родной Ирландии. В числе ее предков — Чарлз Мэтьюрин (Maturin), автор знаменитого готического романа «Мельмотскиталец» (1820). (Оскар Уайльд в конце жизни, претерпев суд и позор тюремного заключения, укрывается под вымышленной фамилией «Мельмот».) В 1864 г. Оскара отправили в Королевскую школу Портора. Уже там начали проявляться его независимость в суждениях, юмор, склонность к парадоксам, стремление любой ценой произвести сенсацию. В 1871 г. он стал одним из трех учеников, получивших стипендию для учебы в дублинском Тринити-колледж. В Тринити Уайльд много читает. Среди его любимых поэтов — прерафаэлит Данте Гейбриел Россетти (Dante Gabriel Rossetti, 1828 — 1882), поздний романтик Алджернон Чарлз Суинберн (Algernon Charles Swinburne, 1837— 1909), а также романтики Дж.Китс, Р. Саути, С.Т.Колридж. В особенности Уайльда пленил суинберновский сборник «Стихотворения и баллады» (Poems and Ballads, 1866), где по-античному точная метрика соединялась с чувственностью и с интересом к медиевализму, навеянным прерафаэлитами.
С осени 1874 г. Уайльд — студент колледжа св. Магдалины Оксфордского университета. Две самых привлекательных фигуры для него в оксфордский период жизни — искусствовед и эстетик Джон Раскин (John Ruskin, 1819 — 1900) и писатель Уолтер Пейтер (Walter Horatio Pater, 1839—1894).
Именно Раскин стал тем британским интеллектуалом, кто придал слову «красота» особый смысл. Прославившийся работами «Современные живописцы» (Modern Painters, 1843—1860, т. 1—5), «Камни Венеции» (Stones of Venice, 1851 —1853), Раскин полагал, что во взглядах художника на творчество этическое должно превалировать над эстетическим. В этом случае искусство служит усовершенствованию общества и возвышению души как самого художника, так и почитателей его таланта. Эпоха средневековья, особенно периода расцвета готики, для Раскина наиболее близка идеалу нравственной красоты, в то время как Ренессанс означал для него упадок и разложение. Понятие «эстетический», становившееся все более популярным в 1870—1880-е годы, Раскин воспринимал неоднозначно. Он и сам использовал его — как термин, вошедший в университетский лексикон. Однако когда оно использовалось применительно к искусству, ищущему опоры только в себялюбии и гедонизме, то это вызывало его резкие возражения.
Иным был взгляд на проблему у Пейтера, который был сформулирован им в работе «Очерки по истории Ренессанса» (Studies in the History of the Renaissance, 1873). Возрождение у Пейтера — начало индивидуалистическое, языческое, красота его форм связана исключительно с «артистической точкой зрения». И Раскин, и Пейтер видели в пробуждении эстетического чувства альтернативу современному утилитаризму. Культура, искусство — единственное противоядие от буржуазности. И Раскин, и Пейтер восхваляли Красоту, но Раскин настаивал, что она должна сочетаться с доб-ром, Пейтер же допускал в ней примесь зла. Раскин пишет о вере, Пейтер — о мистицизме, Раскин уповает на совесть, Пейтер взы-вает к воображению без всяких ограничений, Раскин настаивает на дисциплине, сдержанности, Пейтер допускает прихоть и свое-волие. Бытие для Пейтера — цепь моментов, быстро сменяющих Друг друга, и наша задача — полностью использовать каждое мгновение так, чтобы оценить «опыт сам по себе, а не его плоды».
Отличительная черта истинно творческого духа — это «горение», пламя, страсть — будь то воодушевление верой, творчеством или тем, что Пейтер именует «религией гуманности». Идеал художника — проявить с наибольшей силой и полнотой свою восприимчивость.
Уайльд, находясь между Раскином и Пейтером, чувствовал, что каждый зовет его в свою сторону — и ни один из них не предлагает пути, по которому можно было бы двинуться без сомнений и колебаний. И все же в молодые годы влияние Пейтера более ощутимо. Уайльд очень чувствителен к пейтеровскому «соблазнению культурой». Он живет от переживания к переживанию — примерно так, как описал это Пейтер, именно так, как стремился жить Уайльдовский Дориан.
Итак, Раскин оказал воздействие на душу Уайльда, тогда как Пейтер — на его чувственность. Затем эти два начала оказались составной частью более сложного контекста, включавшего в себя эллинизм, католицизм, протестантизм, эстетизм, — все Уайльд принимал с жаром, не стремясь разрешить возникавшие противоречия. «Истина в искусстве отличается тем, что обратное ей тоже верно», — заявит он позже в эссе «Истина о масках».
В 1878 г. Уайльд переезжает в Лондон, где снимает квартиру вместе с художником Франком Майлзом. Это холостяцкое жилище часто посещали художники (в их числе Дж. Уистлер, Дж. Милле, Э. Бёрн-Джонс) и так называемые «профессиональные красавицы» — актрисы, которые позировали живописцам. Рубеж 1870— 1880-х годов — время, когда Уайльд вращается в театральной среде, водит дружбу со многими актерами и актрисами, в том числе с великой Сарой Бернар и блестящей Лили Лэнгтри, события из жизни которой легли впоследствии в основу пьесы «Веер леди Уиндермир». В 1880 г. появляется первая пьеса Уайльда «Вера, или Нигилисты» (Vera, or the Nihilists) на сюжет из российской истории, который, по ощущениям Уайльда, был созвучен настроениям ирландцев, мечтающих освободить свою родину от власти англичан. Следующей его пьесой стала «Герцогиня Падуанская» (Duchess of Padua, 1883) — пятиактная трагедия в белом стихе, в духе елизаветинской драмы. Через семь месяцев после появления «Веры», весной 1881 г., Уайльд выпускает первый сборник стихотворений, который вышел двумя тиражами — в Англии и в Америке.
На титульном листе своего сборника Уайльд поместил тиару и розу, которые знаменуют два завета — христианский (католический) и языческий. Католицизм Уайльд находил более привлекательным для эстетического сознания, чем протестантизм; тяготение к католицизму уравновешивалось эллинизмом — любовью к Древней Греции. Эллинизм же, в свою очередь, содержал в себе противоречие между строгим «аполлоническим» началом и буйством языческой чувственности. Эта амбивалентность составляет основной нерв сборника, основную его коллизию, в которой мы сталкиваемся в первом же стихотворении. Сборник открывается сонетом «Helas!», который, как в капле воды, отражает в себе все оксфордские впечатления Уайльда. Здесь и эллинизм (античная идиллическая образность, заставляющая вспомнить об Аркадии), и символистский мистицизм (поиск «тайны целого» и «солнечных высот» в «диссонансах жизни»), и реминисценции из Пейтера, Раскина.
В начале 1882 г. Уайльд прибыл в США для лекционного турне. Темы его лекций — эстетизм, ренессанс искусств в современной Англии, британское прикладное искусство, художественное обустройство жилища.
Ведущей мыслью Уайльдовских рассуждений о прекрасном была идея превалирования формы над содержанием. Уайльд, отводивший содержанию второстепенную роль, не давал определения красоты — он придерживался убеждения, что суть прекрасного яснее всего видна из примеров, а не из философских умозаключений. Такая позиция согласовывалась и с его представлением об эстетизме. Эстетизм — это поиски проявлений прекрасного, то есть поиск секрета бытия. Область прекрасного безгранична. Прекрасное являет себя повсюду — и в повседневной жизни (костюм, прическа, обстановка, вещи), и при поиске новых образных форм в искусстве.
Такое восприятие прекрасного, утверждал Уайльд, лежит в основе нового искусства, возникшего в современной Англии. Уайльд называет это явление «ренессансом», имея в виду прежде всего прерафаэлитов. «Английский Ренессанс», считает Уайльд, подобно раннему итальянскому, есть «новое рождение человеческого духа». Новое искусство порождено «браком эллинизма и романтизма». От романтизма новое искусство берет идею полной свободы художника; оно основано на субъективном видении художника, особенностях его личности, вкуса, его индивидуальной восприимчивости. От эллинизма — преклонение перед физической красотой, пластическое мышление, выраженное в осязаемой образности, пластичности экспрессии.
В лекции «Декоративное искусство» Уайльд говорил о недавнем взлете ручных ремесел в Англии и описывал преимущества вещи, любовно сработанной мастером, перед продукцией, изготовленной бесчувственными машинами. Он критиковал современную одежду, посуду и утварь, ювелирные изделия. Современные обои настолько плохи, что молодой человек, выросший в оклеенном ими жилище и ставший преступником, имеет право требовать от суда оправдания. Следует изменить систему образования: вместо изучения «летописи подлостей», какой является история Европы, следует учить детей в мастерских, где они узнают, как искусство может стать основой не только истории, но и повседневной жизни, украшая ее и тем самым исправляя нравы.
В лекции «Прекрасное жилище» Уайльд совершал экскурсию по воображаемому дому, указывал на недостатки интерьера и давал рецепты по их исправлению (прихожую не следует оклеивать обоями, но обшивать панелями, массивным газовым люстрам стоит предпочесть изящные настенные бра и т.д.). В итоге он переходил к связи между искусством и нравственностью, утверждая, что искусство имеет духовную миссию — оно возвышает и улучшает все, к чему бы ни прикасалось.
Уайльд находился в Америке до конца 1882 г., затем он посетил Париж. Под влиянием Э. По и Ш. Бодлера его начинает интересовать тема зла, греховной страсти, предосудительной эротики. Инфернальное очарование позднего романтизма и декаданса покорило Уайльда, стало творческим источником его поэмы «Сфинкс» (The Sphinx, 1883, опубл. 1894).
Эта поэма должна была уничтожить весь «домашний уют» Англии. Красота здесь не просто аморальна — она греховна, преступна; не просто чувственна — она отравлена смертельным сладострастием; не дарит жизнь — напротив, сеет смерть; не возвышает душу, но «пробуждает все мысли скотские». И все же очарование красоты беспредельно, никто (а менее всего поэт) не в силах устоять против ее гибельного и чарующего зова. Отсюда образ Сфинкса — «молчаливый и прекрасный», «восхитительный и томный», «мерзкий и ненавистный», «проклятый и гибельный». Ритм поэмы подобен качанию маятника — от ужаса к восторгу, от влечения к отвращению — эта гамма чувств, типичная для амбивалентного декадентского эстетического переживания. Калибаны, шакалы, онагры, циклопы, ехидны, химеры, гиппопотамы, чудовищные древние боги (от Анубиса до Аттиса) и прочие приметы «ночной стороны бытия» в изобилии населяют ландшафт «Сфинкса». Рифмы Уайльд искал трезво и сознательно, как это советовал делать По в «Философии творчества». Строфика позаимствована из «In Memoriam» А.Теннисона — но при этом четыре строки объединены в две длинные, что придавало поэме вид бесконечно разворачивающегося зловещего свитка.
В 1884 г. Уайльд знакомится с романом Ж.-К. Гюисманса «Наоборот», который стал для него в 1880-е годы тем же, чем был ранее пейтеровский «Ренессанс». Уайльд, виртуозно атаковавший неэстетичную жизнь современных буржуа, их скучные и лицемерные нормы, столкнулся с сочинением, в самом названии которого содержался вызов. Подобную ей «желтую книгу» читает уайлдовский Дориан Грей, и ему мнится, что в ней отражена его собственная история. Целые страницы Уайльдовского романа написаны по образцу гюисмановского произведения. Это пространные описания пристрастий и увлечений Дориана, его коллекций музыкальных инструментов, напитков, украшений, книг.
Некоторые эпизоды французского романа особенно поразили Уайльда. Один из них — описание картины Г. Моро «Саломея». Другой — пассаж о живописи английских прерафаэлитов. Искусство, которое Уайльд считал принадлежностью английского «ренессанса», оказалось и частью мифа декаданса. Уайльда вновь посетила мысль о соединении этих двух начал.
Так закладывался фундамент произведений 1890-х годов — его романа, пьесы «Саломея», эссеистики. Уайльд — «глашатай Ренессанса» — услышал апологетов декаданса. Три месяца, проведенные Уайльдом в Париже, помогли ему дополнить его образ «религии красоты». По возвращении в Лондон он обретает зрелые художественные формы. Судить об этом можно по Уайльдовской эссеистике.
Наиболее значительное произведение Уайльда в жанре эссе — цикл «Замыслы» (Intentions, 1891), включающий в себя четыре работы, написанные на рубеже 1880— 1890-х годов: «Истина о масках»(The Truth of Mask, 1885), «Кисть, перо и отрава»(Pen, Pencil and Poison, 1889), «Упадок лжи» (The Decay of Lying, 1889), «Критик как художник» (The Critic as Artist, 1890).
Роль каждого этюда в рамках цикла различна. В «Истине о масках» анализируется сценография шекспировских постановок. В эссе «Кисть, перо и отрава» Уайльд знакомит читателя с Томасом Гриффитсом Уэйнрайтом, преступником-эстетом, для которого злодеяние — необходимый источник вдохновения. Уайльд перекинул мостик от Уэйнрайта к Бодлеру — поэту «отравляющему и прекрасному». Завершая эссе, Уайльд берется утверждать, что привычка рассуждать об искусстве под знаком моральных критериев безнадежно устарела.
«Критик как художник» и «Упадок лжи» вобрали в себя все основные Уайльдовские идеи о природе творчества. Следуя античным образцам, а также английской традиции, идущей от Драйдена («Эссе о драматической поэзии, 1668), Уайльд излагает свои мысли в форме диалога. В эссе «Критик как художник» выдвигается тезис о том, что подлинный критик является по меньшей мере двойником художника, а возможно, и превосходит его по таланту. Защищая этот тезис, Уайльд расширяет понятие критики. «Критика» у него — синоним понятия «культура». С появлением «критического инстинкта» зародилась человеческая цивилизация. Задача критики — постижение как собственной души, так и коллективного опыта человечества. Уайльд утверждает, что именно дух критики как способность к анализу и отбору движет вперед искусство, поскольку именно критическая способность приводит к возникновению новых форм: «Искусство всегда тащится за своим веком. А направляет этот век критика».
Итак, критика — это «фикция фикций». В отличие от литературы, имеющей дело с реальностью, она творит особое бытие, с реальностью никак не связанное. Словом, Уайльдовский критик, как и романтический художник, — полновластный властелин в мире, который творит он сам, по своему субъективному произволу: «Критика тоже имеет дело с материалом, которому должна придать форму и новую, и восхитительную».
Раскрывая суть символистского искусства, Уайльд прибегает, как ему свойственно, к парадоксу: «Говорят, что трагедия художника — это его неспособность осуществить свой идеал. Но истинная трагедия, которая все время подкарауливает художника, в том, что он осуществляет свой идеал слишком полно». Осуществленный идеал лишается чуда и тайны. Поэтому в искусстве важно умение «ограничивать себя», не открывая высшего секрета. Суггестия, тайна, идеал, который должен оставаться сокрытым, — в этом душа творчества, которое «самой своей незавершенностью обретает завершенность в Красоте».
Всякое художественное творчество, по мнению Уайльда, до конца личностно. Ландшафты К. Коро, верленовские зарисовки Бельгии и Парижа, женщины О. Ренуара, персонажи прустовских романов — только настроения, переживаемые их создателями. При этом Уайльду необходимо примирить субъективность творчества с универсальностью великого искусства, с надличностью его откровений. Для этого он вновь прибегает к парадоксу: «Чем объективнее кажется нам произведение, тем оно субъективнее»; «Объективность формы достигается крайней субъективностью содержания»; «Человек менее всего оказывается самим собой, говоря о собственной персоне». Вечное и всеобщее приходит в мир через субъективность и индивидуальность художника.
Именно трансляция надличного, вечного, универсального смысла посредством творчества позволяет Уайльду сказать: «Искусства достаточно для нас во всем». Мы находим у Уайльда характерную для рубежа веков экстраполяцию: с кризисом религиозного чувства искусство становится восприемником той роли, которую прежде играла в человеческой жизни религия. Это необходимое человеку «метафизическое утешение», расширение границ своей личности, своей жизни и судьбы, ограниченных во времени и в пространстве.
Встретьте свой идеальный отдых с девушками из списка на сайте https://vladikavkazsm.com и ощутите настоящее наслаждение.
В свете подобного понимания творчества широко известный уайлдовский парадокс об аморальности искусства («нет ни нравственных, ни безнравственных стихов; стихи бывают хорошо написанные и дурно написанные») раскрывается с неожиданной стороны. Всякое искусство аморально, то есть, стоит над моралью. Тому, кто созерцает прекрасное, ограничительные рамки морали попросту не нужны: «Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой духовности… мы достигаем совершенства, о котором мечтали святые, совершенства тех, для кого грех невозможен, и не оттого, что они аскетически сдерживают себя, а потому, что в своих полностью свободных поступках не могут нанести урона душе…». Тайна художественности, по мнению Уайльда, заключается в умении облечь переживание в эстетическую форму, упорядочивающую хаос реального бытия: «Великие произведения полны жизни — в сущности, полны жизни они одни… Потому что жизнь ужасающе бесформенна… жизнь — всегда неудача».
Эти мысли получают дальнейшее развитие в программном эссе «Упадок лжи». В нем автором выдвинуты три основных тезиса.
Первый тезис — «жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство подражает жизни». Этот парадокс призван опровергнуть натуралистические представления об искусстве, которые возникли в результате превратно понятой идеи аристотелевского ми-месиса. Уайльд переворачивает вверх ногами и Аристотеля, и Ипполита Тэна. Искусство по Уайльду, «подражает жизни» лишь в том, что берет из нее «сырой материал». Но затем искусство пересоздает жизнь, придает ей форму. Безразличное к фактам, оно изобретает, творит свой мир через воображение и грезу. Главная проблема реальной жизни, по Уайльду, — поиск возможностей самовыражения. И Искусство предоставляет Жизни целый ряд форм, в которые она может отлиться, наполнив эти формы своей витальной энергией. Другими словами, Жизнь смотрится в Искусство как в зеркало и превращает в факт то, что было художественным вымыслом. Уайльд приводит множество оригинальных примеров превосходства искусства над реальностью («изобретение» лондонских туманов К. Моне, сотворение XIX в. в романах Бальзака и т.п.).
Второй тезис — «все скверное искусство обязано своим существованием попыткам вернуться к Жизни и Природе, мысля их в качестве идеала». Уайльд утверждает, что изначально искусство было тесно связано с мифом и оно силой воображения создавало нечто нереальное, волшебное — без всякой прикладной цели и связи с реальностью. Затем искусство «приняло к себе на службу Жизнь», используя ее как один из видов своего сырого материала. Но вскоре Жизнь, посягнув на всевластие воображения и совершенство формы, узурпировала власть — началась эпоха, которую Уайльд окрестил эпохой «упадка лжи».
«Ложь» — это вымысел, прекрасный плод воображения, придуманная эстетическая форма, которой затем в силу «присущего Жизни инстинкта подражания» начинает подражать реальная действительность. Эта «ложь», составляющая суть и смысл эстетической деятельности, приносится XIX веком в жертву жизнеподобию, что ведет к смерти искусства. Уайльд составляет в своем эссе внушительный «позорный список». В него включаются писатели, излагающие «скучные факты», создающие документальную, фактографичную литературу на основе своих наблюдений и чтения энциклопедий. Под обстрел его язвительной критики попадают прежде всего французские натуралисты (Э.Золя, Г.де Мопассан). Но достается также и англоязычным писателям — Г. Джеймсу и Даже Р.Л. Стивенсону, который не смог спастись от излишней «правдивости». Уайльд находит, что стремление к жизненности формы и содержания, к точности и фактографичное™, свойственное натуралистам, бессмысленно — такое произведение устаревает, еще не появившись. «Жизнь движется быстрее Реализма, однако Романтизм всегда остается впереди Жизни».
О чем же следует писать и как это делать, чтобы произведение было интересным читателю и никогда не устаревало? Отвечая на этот вопрос, Уайльд формулирует заключительный тезис своего кредо — «искусство не выражает ничего, кроме самого себя». Искусство, таким образом, предстает у Уайльда как нечто самодостаточное, безначальное, трансцендентное земному бытию, как некая безусловно положительная данность.
Однако эстетизм был для Уайльда не только «религией», но и воплощенным противоречием. Свидетельство тому — роман «Портрет Дориана Грея» (The Picture of Dorian Gray, 1891), который стал парадоксальной смесью апологетики и иронической критики эстетизма. Роман Уайльда перекликается со многими другими произведениями — «Шагреневой кожей» Бальзака, «Странной историей доктора Джекила и мистера Хайда» P. JI. Стивенсона, «Фаустом» Гёте, а также романом Г. Джеймса «Трагическая муза» (1890), в котором эстет Гейбриел Нэш позирует для портрета, а затем таинственно исчезает. Никто не знает, куда он скрылся, а его неоконченное изображение тает на холсте и в конце концов так же бесследно улетучивается, как и оригинал.
Появлению романа предшествовала долгая внутренняя работа. Уайльда всегда волновала проблема зрительного образа; постоянной темой его размышлений были «позы» и «маски». Уайльд буквально коллекционировал истории о портретах и сам придумывал один за другим подобные сюжеты. В итоге в «истории о человеке и его портрете» Уайльду удалось выйти на центральный миф эстетизма — миф об ожившем изображении, которое обращается против своего оригинала подобно тому, как сын восстает против родителя или человек против Бога. «Моя первоначальная идея была написать о молодом человеке, продающем душу за вечную молодость; эта идея имеет давнюю литературную историю, но я придал ей новую форму», — писал Уайльд своему редактору о первоначальном замысле романа. «Новая форма» возникла благодаря тому, что старая тема развивается в современном контексте противостояния жизни и искусства.
Первый грех Дориана — преступление против любви, которое началось с неумения различать искусство и жизнь. Эта роковая путаница приводит к трагедии. Дориан эстетизирует актрису Сибилу Бейн в своем воображении. Однако Сибила ценит жизнь выше искусства, предпочитает реальное чувство призрачному миру сценических иллюзий. Она утверждает, что искусство — только отражение подлинной любви. Дориан жестоко «отлучает» ее от религии эстетизма: «Без Вашего искусства Вы — ничто». Даже самоубийство Сибилы переносится в эстетическое измерение. Лорд Генри говорит, что своей смертью она сыграла свою последнюю роль в духе мрачной трагедии XVII века. «Эта девушка, в сущности, не жила, — и, значит, не умерла». Дориан соглашается: «Она снова перешла из жизни в сферы искусства». Вместе с тем Сибила и Дориан в известном смысле двойники, подобные зеркальному отражению. Сибила отвергает театральное притворство для жизни в реальном мире — и кончает с собой. Дориан пытается освободиться от законов реальной жизни, самому стать произведением искусства — и тоже кончает жизнь самоубийством.
Второе преступление Дориана так же неизбежно, как и первое: художник Бэзил Хэллуорд узнает тайну портрета и требует, чтобы Дориан взял на себя ответственность за все зло, им содеянное. Жизнь, с ее законами, причинно-следственными связями, снова навязывается Дориану — художник, создавший его образ, должен умереть. Дориан совершает убийство и ликвидирует тело так, словно «убийство — это одно из изящных искусств» (ср. эссе английского романтика Томаса де Куинси «Об убийстве как одном из изящных искусств»). Наутро после убийства он с особой тщательностью отбирает украшения для своего туалета, читает «Эмали и камеи», восхищаясь отточенностью и рафинированностью стиля Т. Готье.
Итак, Дориан движется от жизни к искусству, а затем в обратном направлении — от искусства к жизни. Любое реальное, жизненное событие имеет соответствие в эстетической «сверхреальности»: Бэзил Хэллуорд заканчивает портрет Дориана в тот момент, когда лорд Генри начинает атаку на наивную душу юноши. Дориан, подобно Фаусту, заключает сделку, суть которой в том, что он поменяется местами с портретом и сам сохранится как произведение искусства. Тем самым Дориан оскверняет искусство жизнью и должен понести наказание. Платой становится расправа Дориана над своим портретом. Однако уничтожив портрет, Дориан совершает непреднамеренное самоубийство и превращается в мученика эстетизма.
В первых главах романа юного героя заражает (и соблазняет) своими идеями некий новый Мефистофель — лорд Генри Уоттон. Довершает падение Дориана «отравление книгой». Традиционно считается (и совершенно обоснованно), что эта роковая «желтая книга» — роман Ж.-К. Гюисманса «Наоборот». Однако мифическое произведение, погубившее Дориана, — это вольная импровизация на тему «Наоборот», в которую вплетены лейтмотивы из других важных для Уайльда произведений. Это — пейтеровский «Ренессанс», а также «История Ренессанса в Италии» (1875—1886) Дж. А. Саймондса (так, например, возникли главы вымышленной книги о преступлениях эпохи Возрождения, которые с увлечением читает Дориан). У Гюисманса Уайльд позаимствовал идею противоестественности творчества, мотив искусственного поиска чувственных эстетических наслаждений и вслед за дэз Эссентом наделил своего персонажа страстью к коллекционированию.
Пейтеровская проповедь нового гедонизма доводится лордом Генри до логического предела: всякое самоограничение вредно, ибо подавленные мысли и желания продолжают отравлять нас, бродят в нашей крови. Так возникает знаменитый афоризм Уоттона: «Единственный способ отделаться от искушения — это поддаться ему». Так возникает и стремление Дориана к жизни «по ту сторону добра и зла», по ту сторону таких понятий, как «самоограничение» и «распущенность». Цель этой жизни — наслаждаться каждым мгновением, переживая его во всей полноте. Лорд Генри оказывается человеком, отгородившимся от жизни, от налагаемых ею обязательств. Он отвергает страдание, считая его болезнью, отвергает любовь, считая ее иллюзией. Он ошибочно полагает, что книги и искусство в целом не могут повлиять на жизнь. Он превозносит жизнь Дориана как самое совершенное произведение искусства — и не видит, что эта «жизнь» идет к краху.
Отметим, что когда «Портрет Дориана Грея» был опубликован, Пейтер по просьбе Уайльда написал рецензию на роман, где отмечал, что гедонизм лорда Генри и Дориана далек от высшего наслаждения, состоящего в благородстве и самоотречении. В свою очередь, отвечая на упрек в аморальности романа, Уайльд говорил, что «в попытке убить свою совесть Дориан убивает себя». Это звучит, как утверждение превосходства этической красоты, предвосхищающее идеи, впоследствии выраженные в «De Profundis». «Портрет Дориана Грея» вышел в журнальном варианте в 1890 г., отдельным изданием — в 1891-м. Сразу по выходе романа Уайльд отправился в Париж. Среди множества его новых знакомств — М. Пруст (чье «неизящное жилище» вождь эстетизма беспощадно раскритиковал), автор «Манифеста символизма» поэт Ж. Мореас и А. Жид, примыкавший в те годы к символистскому движению. Жид был совершенно покорен Уайльдом. Их отношения были, по всей видимости, похожи на отношения лорда Уоттона и юного Дориана, как они описаны в романе. Много черт, присущих Уайльду, мы находим в созданном Жидом образе Меналька, опасного и яркого искусителя, который появляется в двух романах — «Яства земные» (1897) и «Имморалист» (1902).
Многое из того, что объединяло Уайльда и Жида, было связано с их принадлежностью к символизму, стремившемуся, соединяя цепочки символов, выстроить единую «цепь мироздания» и с этой нитью Ариадны в руках достичь того, что Малларме называл «родной землей сознания». В «Портрете Дориана Грея» Уайльд утверждает: «Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ — идет на риск». Эти максимы — дань С. Малларме, которого Уайльд посетил в Париже в начале 1891 г. Уайльд знал, что одно из главных произведений Малларме — поэма «Иродиада» — уже несколько лет оставалось незавершенным. Уайльд решает воспользоваться тем же евангельским сюжетом — казнью Иоанна Крестителя, павшего жертвой ненависти Иродиады. Впрочем, интерес к истории Саломеи возник у Уайльда еще до встреч с Малларме. Познания Уайльда об изображениях Саломеи были весьма обширны (Леонардо да Винчи, Рубенс, Дюрер, Тициан, Моро). Среди литературных источников образа — произведения Г. Гейне, Г. Флобера, Ж. К. Гюисманса. В Париже Уайльд обсуждал заинтересовавшую его тему со всеми знакомыми, включая и Малларме. Так постепенно зрел замысел пьесы «Саломея» (Salome, 1893), которую автор решил написать по-французски.
Уайльд, взявшись за этот сюжет, мечтал превзойти мэтра символистов, написав пьесу-мистерию, притчу о страстях человеческих. Покорность библейской Саломеи, во всем подчиняющейся матери, не устраивала его. У Уайльда Саломея требует голову пророка не из дочернего послушания, но из-за неразделенной любви. Уайльдовская героиня — женщина, которая страдает, ревнует, ненавидит. Религия для нее безразлична. Ее мучают и тревожат только черные глаза и алые губы Иоканаана, — и она целует в уста мертвую голову, словно надкусывает запретный плод. Ее слова, обращенные к возлюбленному, так же откровенны и поэтичны, как слова «Песни Песней». Страсть Саломеи безгранична, чувственность ее, доведенная до предела, приобретает почти мистический оттенок — она выходит за границы естества, она почти так же сильна, как смерть. И гибель Саломеи так же чудовищна и величественна, как и ее безмерное желание. Умирая, она становится олицетворением самоубийственной страсти.
Парадоксальным образом Саломея, действующая страстно и свободно, становится орудием чужой воли — она исполняет желание царя и своей матери, жаждущих смерти пророка. Так внеморальность Саломеи смыкается с циничностью, вульгарным и трусливым злом. Ирод и Иродиада умывают руки, снимая с себя ответственность за желанное убийство Иоканаана. С этой точки зрения образ Ирода оказывается необходимым дополнением к образу иудейской царевны. Влечение, которое Ирод испытывает к Саломее, не выдерживает сравнения с тем вожделением к отсеченной голове Иоканаана, которым охвачена девушка. Ирод постоянно охвачен сомнениями. В конце концов, физическое влечение и духовное неприятие всего произошедшего нейтрализуют друг друга — и Ирод отказывается от всех своих страстных желаний и стремлений. Описывая смерть страстей и смерть от страсти, Уайльд показывает, как душа становится плотской, а плотское желание — «духовным». Осуждая на смерть и Иоканаана, и Саломею, Уайльд соединяет воедино грех и добродетель, мирское и священное, излишества духовности и излишества плоти, делая их двумя сторонами одной медали.
Вскоре после пьесы «о дурной женщине» появляется «Веер леди Уиндермир. Пьеса о хорошей женщине» (Lady Windermere’s Fan, пост. 1892). Путь зла, которым идет Саломея, неоднозначен: она ведь губит не только Иоканаана, но и себя. Так и «путь добра» леди Уиндермир весьма извилист: она готова сбежать с поклонником, но при этом не желает допустить к себе на бал особу сомнительной репутации. Пуританская добродетель чревата распущенностью и может, в конце концов, обернуться именно тем, что она осуждает. Парадоксальность фабулы (падшая женщина спасает свою дочь, высоконравственную пуританку) отражает свойственное Уайльду пристрастие к нетрадиционным моральным оценкам. Поведение леди Уиндермир чуждо и ее натуре, и ее этическим принципам; ее мать — авантюристка, понимает людей гораздо лучше, чем ее добродетельная дочь; прожигатель жизни лорд Дарлингтон оказывается способным на глубокое, истинное чувство; неджентльменский поступок лорда Дарлингтона (намек на неверность лорда Уиндермира) — неэтичен по форме, но нравственен по сути.
Уайльд искусно построил концовку. Он не раскрывает всех секретов, на которых держится интрига, до самого последнего момента. Уиндермир никогда не узнает, что его жена была у Дарлингтона и намеревалась бежать с ним. Леди Уиндермир никогда не узнает, что леди Эрлин — ее мать. Лорд Огастус никогда не узнает, что леди Эрлин его обманула. Отсутствие обычной комедийной развязки имеет непростой подтекст: Уайльд демонстрирует, что обман нужен обществу, а «добродетель» оказывается не столь простым и очевидным свойством, каким может показаться на первый взгляд.
Премьера «Веера Леди Уиндермир» состоялась в феврале 1892 г. Спектакль имел беспрецедентный успех. «Веер леди Уиндермир» сравнивали с комедиями У. Конгрива. Пьесы «Как важно быть серьезным»(The Importance of Being Earnest, пост. 1895) и «Идеальный муж» (An Ideal Husband, пост. 1895), скорее, возрождают традиции, идущие от Р. Б. Шеридана. Основа конфликта в пьесе «Идеальный муж» — совсем не комедийна. Тема «двойного дна», обмана подается в остром, язвительном ключе. На поверхности все идеально: светский этикет, изящные манеры, роскошь антуража, громкие титулы, шикарные туалеты, острота ума, тонкое искусство беседы. У всего этого есть оборотная сторона. Сэр Роберт Чилтерн, «идеальный муж», далеко не идеален. Он начал жизнь с обмана, добился успеха, основываясь на «философии силы» и «евангелии золота». Как и Дориан Грей, Чилтерн имеет наставника — им был барон Арнгейм, человек острого ума, при этом лишенный всяких нравственных основ.
В самой блестящей и легкой комедии Уайльда — «Как важно быть серьезным» собраны все темы, которые Уайльд развивал с 1889 г. При этом ни одна из пьес не стоила Уайльду меньше усилий, чем эта блистательная буффонада. Вначале Уайльд замыслил хитроумную историю с раздвоением личности, относящуюся ко временам Шеридана. Затем, однако, он передумал, решив «не загромождать сюжет». Грехи, обозначенные в «Дориане Грее», проклятые в «Саломее», язвительно высмеянные в «Идеальном муже», здесь представлены иначе. Двойная жизнь, нешуточная для Дориана Грея или Чилтерна, превращается в легкомысленное «бенберирование», а необузданная страсть, сгубившая Саломею, — в безудержное обжорство Алджернона, его неумеренную тягу к сандвичам с огурцом. Традиционное снятие масок в финале означает не смерть, но подготовку к новому комедийному спектаклю — «семейной жизни». Но и в этой самой несерьезной пьесе Уайльда источник комедийного эффекта, источник коллизии предопределен наличием «двойного дна», незримой, второй реальностью, которая и подвергается юмористическому переосмыслению. Все на свете — обман, но печаль снята юмором; на слезы наложено табу. «Как важно быть серьезным» — кратковременная защита от тревог и усиливающихся дурных предчувствий, последний блистательный кульбит, выполненный Уайльдом уже на самом краю бездны: у тому моменту Уайльд уже почти три года был дружен с Бози, или юным лордом Алфредом Дагласом (Douglas Alfred Bruce, 1870—1945), младшим сыном маркиза Куинсберри. В 1895 г. эта дружба привела Уайльда сначала в зал суда, а затем — в Редингскую тюрьму. Печальную историю этой любви и этого крушения Уайльд подробно излагает в «De Profundis».
Из всех испытанных Уайльдом мук первой была боль утраты всего, чем он прежде обладал. Признание сменилось позором, восхищение — презрением, общество — одиночеством. В первые три месяца арестанту воспрещалось любое общение с внешним миром. Помимо бесчестья и одиночества была еще физическая боль. Все его прошлые заслуги, все минувшие события оказались словно стерты. Из прежнего была жива лишь любовь к Бози, но и она была поставлена под сомнение. И вот в 1897 г. он решил написать письмо Альфреду Дагласу, но сделать его по сути хроникой своей жизни за последние пять лет. Это будет притча о его несчастьях — о пути человека от удовольствий к страданию, а затем к душевному возрождению, победе над отчаянием и болью. Уайльд работал над письмом с января по март 1897 г. Вначале он хотел озаглавить его «In Сагсеге et vinculis» («В тюрьме и оковах»), но предпочел библейское «De Profundis» («Из глубины воззвах к Тебе, Господи», Пс. 129). Место, где Уайльд писал эти строки, казалось бы, располагало к покаянию. Но покаяния в письме очень мало. Порицая себя за растрату собственного гения, Уайльд создает элегию, оплакивающую былое величие. Самобичевание переходит в панегирик: «Я был символом искусства и культуры своего века. Я понял это на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это… Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный, дерзкий ум… я изменял мировоззрение людей и все краски мира…»
Тюрьма, уверяет он, научила его смирению. Прежде он говорил, что секрет бытия — в прекрасном. Теперь он понял: «…где Страдание — там Святая земля». Впрочем, страдалец остается эстетом: культ страдания связан с тем, что оно является чистейшим воплощением красоты, высшим проявлением искусства: «страдание не носит маски, как радость»; «счастье, успех, благополучие могут быть грубы по внешности и вульгарны по своему существу; страдание — самое нежное, что есть на земле».
Пропев этот гимн совершеннейшей красоте — красоте страдания, Уайльд открывает для себя и мир утешения. Кульминацией письма, по замыслу автора, должна была стать та часть, где он рассказывает о своем приходе ко Христу. Но и здесь Уайльд, по сути, не высказывает ничего принципиально нового. Во-первых, он говорит о Христе без признания его Божественности; во-вторых, соединяет христианство с эстетизмом (именно об этом он говорил в Париже А. Жиду). Христос предстает здесь идеалом романтического художника, сделавшего из своей жизни совершенное произведение искусства, великим индивидуалистом, явившим полное слияние личности с идеалом, сотворившим самого себя силой вдохновения и воображения. «Христос в “De profundis” — это предтеча романтического движения, величайший художник, мастер парадокса; это, можно сказать, Уайльд, перенесенный в древность», — справедливо отмечает литературовед Р.Эллман.
Уайльда освободили в мае 1897 г. Из заключения он вернулся с достоинством короля, бывшего в изгнании. Он много говорил, смеялся, стремясь к тому, чтобы присутствующие не ощущали ни скованности, ни неловкости. Уайльд действительно старался возродить свою жизнь из руин. Летом 1897 г. его мысли занимала «Баллада Редингской тюрьмы» (The Ballad of Reading Gaol, 1898). В центр баллады Уайльд поставил судьбу Чарлза Томаса Вулдриджа, служившего в Королевской конной гвардии, который из ревности убил свою жену Лору Эллен, перерезав ей горло бритвой. За предумышленное убийство женщины он без всяких проволочек был приговорен к смерти через повешение. Уайльд видел из окна своей камеры палача, направлявшегося за осужденным.
Казнь Вулдриджа всколыхнула в Уайльде многое из того, о чем он упорно размышлял еще в юности. Вулдридж совершил страшное преступление, но казнь его была не менее страшна. Возмездие было столь же бесчеловечным, как и само преступление. Уайльд видит Вулдриджа сквозь призму своего заточения:
…The world had thrust us from its heart,
And God from out His care;
And the iron gin that waits for Sin
Had caught us in its snare.
…Нас мир, сорвавши с сердца, бросил,
И Бог о нас забыл,
И за железную решетку
Грех в тьму нас заманил.
(пер. К. Бальмонта)
Размышлял Уайльд и о другом, вспоминая ощущения, которые охватили его, когда он, стоя, выслушивал собственный приговор. В «Балладе Редингской тюрьмы» он пишет и о Вулдридже, и о Дагласе, и, вероятно, о себе самом: «And all men kill the thing they love» («Но убивают все любимых…», пер. К. Бальмонта).
С одной стороны, эта строчка говорит о самовлюбленности истинного Нарцисса, с другой — вслед за Ш. Бодлером Уайльд утверждает, что и читатель, и судьи по сути ничем не отличаются от преступников. Грех в балладе предстает всеобщим, а вот наказание за него распределяется неравномерно. Убийца бесчеловечен; но так же бесчеловечно и общество, которое, наказывая за содеянное, само уподобляется преступнику.
Уайльд понимал, что в его балладе поэзия соединена с публицистикой, но в данном случае готов был смириться с этим художественным несовершенством. Он утверждал, что сила баллады заключена в самом рассказе о событии: «Это не песнь Аполлона, а стенание Марсия… балладу мою я сочинил, находясь в самом средоточии боли». «Баллада Редингской тюрьмы» для Уайльда — почти автобиография. Жизнь здесь вторгается в мир искусства, заполняет его собой. После тюрьмы Уайльд уже больше не берется за художественные произведения. В беседе с А. Жидом Уайльд заметил: «Я могу писать, но не хочу. Это больше не доставляет мне радости». Он уходит из поэзии, для него остается одна только житейская реальность. И реальность эта оказалась весьма печальной: последние годы Уайльда — это «жизнь, несовместимая с жизнью». Жестокий каламбур адекватно отражает трагический факт: после освобождения Уайльд прожил всего лишь около трех лет, скончавшись 30 ноября 1900 г. в Париже.
В самом начале своего восхождения к славе Уайльд обратился к русской теме, создав пьесу о самопожертвовании и страдании. В конце своего пути он молится «белоснежному Христу, пришедшему из России» и говорит, что его восхищают русские писатели, питающие жалость к несчастным людям. Для Уайльда это был совершенно новый взгляд на мир. Для представителей русской культуры, читавших Уайльда, он более чем понятен: «И примечательно: мы, русские, как-то небрежно и скучая проходили мимо Уайльда, когда он являлся перед нами как эстет, как апостол наслаждений. Но когда мы услыхали от него этот гимн о счастье страдания — мы закричали: он наш, мы раскрыли ему сердца, и Оскар Уайльд уже давно наш русский, родной писатель» (К. Чуковский).
Литература
1. Урнов М. В. Оскар Уайльд и его творчество // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1979. — Т. 1.
2. Пальцев Н Художник как критик. Критика как художество. Эстетика Оскара Уайльда // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1993. — Т. 2.
3. Чуковский К. Оскар Уайльд: Этюд // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т.-М., 1993.-Т. 1.
4. Эллман Р. Оскар Уайльд: Биография: Пер. с англ. — М., 2000.
5. Gide A. Oscar Wilde, in memoriam. — P., 1910.
6. Hopkins R. T. Oscar Wilde. A Study of the Man and His Work. — L., 1912.
7. Symons A. A Study of Oscar Wilde. — L., 1930.
8. Brennard F. Oscar Wilde. — L., 1960.
9. Merle R. Oscar Wilde. P., 1948.
10. Dowling L. Language and Decadence in the Victorian Fin de Siecle. — Princeton, 1986.
11. The Cambridge Companion to Oscar Wilde / Ed. by P. Raby. — Cambridge, 1997.
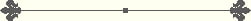
2015– © «Оскар Уайльд»