

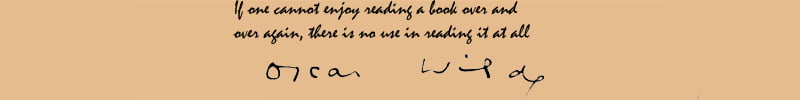
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба
Ты пришел ко мне, чтобы узнать Наслаждения Жизни и Наслаждения Искусства. Может быть, я избран, чтобы научить тебя тому, что намного прекраснее, — смыслу Страдания и красоте его.
Оскар Уайльд
Письма — неотъемлемая часть литературного наследия Оскара Уайльда. Несомненна их значительная художественная ценность. Они проливают новый свет на личность писателя, на его судьбу, которая столь счастливо складывалась вначале, а завершилась жестокой трагедией.
Конечно, прежде всего это относится к знаменитому письму к Альфреду Дугласу, «Бози», написанному в Редингской тюрьме в 1896 г. и изданному другом Уайльда Робертом Россом уже после его смерти, в 1905 г., под заглавием «Тюремная исповедь» или «De Profundis». Трудно определить жанр этого сочинения. Только к эпистолярному его отнести нельзя. Все начинается с послания, предназначенного Бози, и завершается также обращением к нему. Но блистательный эссеист, Уайльд совершает многочисленные пространные отступления. Он то придерживается избранного эпистолярного жанра, то вовсе порывает с ним. Письмо-исповедь превращается в письмо-отповедь, обличающее виновника несчастий Уайльда, избалованного, эгоистичного разрушителя его жизни. Не менее беспощаден самоанализ Уайльда. Пережитое служит отправной точкой для размышлений о прошлом, настоящем, будущем, о том, что может быть интересно всем. Речь идет о Любви и Ненависти, о Скорби и Страдании, о Природе и Искусстве. Особенно много пишет Уайльд о Душе человеческой. Аудитория, к которой он апеллирует, разрастается. Теперь это — все его современники, все человечество. Кто имеет право называть себя истинным художником? В чем его долг перед самим собой и перед теми, кто знакомится с его произведениями? Пройдя через муки ада и унижений, арестант-паяц, арестант-клоун, по собственному определению, Уайльд подводит итог всего, что ему довелось испытать.
Он признается, что, несмотря ни на что, а может быть, вопреки всему, стал еще большим Индивидуалистом, чем когда бы то ни было. Индивидуализм в его понимании — умение найти наиболее ценное в самом себе. Ведь величайшим, первым Индивидуалистом в истории был Христос, которому отводится немало страниц в «De Profundis».
Своим призывом: «Живите ради других» Христос даровал человеку безграничную личность — личность Титана. Он всегда искал одного — души человеческой. Уайльд видел в Христе «полное слияние личности с идеалом», воспринимал его как поэта, творца, ибо «сама его жизнь — чудеснейшая из всех поэм». Весь безгласный мир боли принял Христос в царствие свое, чтобы навеки сделаться его голосом; ему суждено было понять: любовь — это потерянная тайна мироздания, которую тщетно разыскивают все мудрецы.
Уайльд хотел написать две работы: «Христос как предтеча романтического движения в жизни» и «Исследование жизни художника в соотношении с его поведением». Осуществить задуманное ему не удалось. Но он указал на связи Христа или души Христа с разного рода течениями и явлениями, обусловленными романтическим движением: с Шекспиром и поэзией провансальских трубадуров, с Берн-Джонсом и Микеланджело, с Гюго и «Цветами зла» Бодлера, с Верленом, Моррисом, «пламенеющей» готикой и русскими романами. В последних Уайльд особенно отмечал «отзвук сострадания». Увлекаясь русской литературой еще со времен своего обучения в Оксфорде, когда Англия зачитывалась романами Л. Н. Толстого, Тургенева, Достоевского, Уайльд, сопоставляя их, выделял среди всех произведений роман Достоевского «Униженные и оскорбленные». Его любимой героиней была Наташа. В трагических образах Достоевского он видел связь с античной трагедией. В Англии он встретил человека, «несущего в душе того прекрасного белоснежного Христа, который будто грядет к нам из России». Этим человеком был князь Кропоткин.
Лишенный в тюрьме всего, что имел и к чему привык, еще недавно общепризнанный Король Жизни, законодатель мод и вкусов, Уайльд по-новому оценил, что значит для него художественное творчество, а также то, что он дал современной культуре. «В сущности в любое время моей жизни ничто не имело ни малейшего значения по сравнению с искусством», — писал он. Искусство — «тот великий, глубинный голос, который сначала открыл меня мне самому, а потом и всем другим». Перед искусством все другие увлечения, «словно болотная тина — перед красным вином или ничтожный светляк на болоте — перед волшебным зеркалом луны». Мучительное сознание охватывало его: как много времени было потеряно. На это он не имел права. Слишком щедро наградила его природа, слишком благосклонно отнеслась к нему поначалу судьба. Без излишней скромности, но и без позы делился Уайльд открывшейся перед ним в мире страданий истиной: «Я сделал искусство философией и философию — искусством; я изменил мировоззрение людей и все краски мира. Я взял драму — самую безличную из форм, и превратил ее в такой же глубоко личный способ выражения, как лирическое стихотворение, я одновременно расширил сферу действия драмы и обогатил ее новым толкованием».
В Рединге он часто воспринимал себя только в прошлом времени. Например, когда утверждал, что «был (курсив мой. — А. О.) символом искусства и культуры своего века. Я понял это на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это». Он еще раз повторял эту мысль по-французски: «Я ведь enfant du siecle». XIX столетие еще не завершилось. Оставалось несколько лет. Но век Уайльда, в самом деле, исчерпал себя к тому моменту, когда было дописано уникальное письмо-исследование, письмо-пророчество, письмо — своеобразная поэма. Время расцвета творчества Уайльда оказалось очень недолгим — 80-90-е годы. Ослепительная, мгновенная вспышка, за которой тотчас последовало угасание. Поскольку в исповеди все должно быть сказано начистоту и до конца — на то она и исповедь, Уайльд не мог утаить от читателей «De Profundis», что был не просто талантлив, но гениален.
Два ирландца, прибыв в Англию в середине 70-х годов, чтобы «завоевать» ее, заявили, что англичане имеют дело не с кем-нибудь, а с гениями. Так поступили Оскар Уайльд и Бернард Шоу. Оба уроженцы Дублина, почти ровесники (Уайльд родился в 1854 г., Шоу — в 1856 г.). «Англия захватила Ирландию. Что было делать мне? Покорить Англию», — невесело шутил Шоу. А его друг, писатель и публицист Честертон добавил: «Бернард Шоу открыл Англию как чужеземец, как захватчик, как победитель. Иными словами, он открыл Англию как ирландец». Так же поступил Оскар Уайльд. Объявив себя гениями, они бросили это как вызов английскому обществу, где так и не стали своими. Оба выступили дерзкими бунтарями, хотя бунтарство каждого имело особый характер. Они с легкостью овладели всем лучшим в английской культурной традиции, причудливо объединив это с особенностями ирландского художественного мышления. И интеллигенция Англии охотно зачислила их в свои ряды — Уайльд и Шоу для всего мира стали выдающимися представителями английской литературы и искусства, их гордостью.
Но до поры до времени. Ханжески настроенные обитатели британских островов только ждали случая, чтобы проучить выскочек, дать им понять, что они как явились, так и остались чужаками. Так травили Шоу во время первой мировой войны, когда, вопреки насаждаемому британскому патриотизму, он ополчился против империалистов всех наций — как немецких, так и английских, — способствовавших развязыванию мировой бойни. В демонстрацию разбушевавшейся ненависти и злобы превратился суд над Уайльдом в 1895 г., что вызвало встречную волну неприязни у подсудимого: «Я ненавижу Англию… Англия является Калибаном девять месяцев в году и Тартюфом — три остальных».
Уайльда и Шоу скорее принято противопоставлять. Один — эстет, модернист, символист. Другой — убежденный реалист, социалист, противник искусства ради искусства. Художественные пути, которыми шли Уайльд и Шоу, действительно не совпадали; мало в чем соприкасались их политические и социальные убеждения. В 80-е годы «ирландский великан», с томными глазами какого-то неопределенного, то ли серого, то ли голубого, цвета, Оскар Уайльд, тщательно изучив свои жесты и мимику перед зеркалом, поражал обитателей лондонских салонов и гостиных, а также слушателей его лекций об искусстве в Америке сменой стилизованных эстетских костюмов и блеском светской беседы. То он появлялся в атласных штанах до колен, в коротком бархатном спенсере, шелковых чулках, туфлях с серебряными пряжками, с беретом на голове и с подсолнухом в руке, то подсолнух сменялся гвоздикой или орхидеей в петлице, Уайльд надевал обычный вечерний костюм, брал в руки трость из слоновой кости, набалдашник которой был отделан бирюзой, и т. д. В то же самое время Бернард Шоу, также высокий, тощий, с ярко-рыжей бородой, в потертом твидовом пиджаке, единственном, который у него был, брал ящик или табурет и отправлялся в Гайд-парк. Там он влезал на принесенную доморощенную «трибуну» и произносил политическую речь, призывая к социальному переустройству жизни. И хотя один славил красоту, а другой разъяснял суть экономических законов организации общества, оба обладали великолепным даром красноречия.
И все же общее у них было. Взаимная симпатия и, более того, взаимопонимание проступают в письмах друг другу и в замечательном очерке Шоу об Уайльде. Последний восхищался книгой Шоу «Квинтэссенция ибсенизма». После одного из диспутов о социализме с участием Шоу, на котором он присутствовал, Уайльд принялся за свою статью «Душа человека при социализме». «Англия — страна интеллектуальных туманов, но Вы много сделали, чтобы расчистить атмосферу; мы с Вами оба кельты, и мне хочется думать, что мы друзья», — писал Уайльд. Их объединила жажда эпатировать англичан и своеобразный, неповторимый ирландский парадоксальный ум.
Случилось так, что Бернард Шоу оказался рядом с Уайльдом в «Кафе-Рояль» в тягостный для Уайльда день 1895 г., когда затеянный им же судебный процесс обернулся резко против него. Шоу был среди тех, кто настоятельно советовал Уайльду немедленно покинуть Англию. Но именно Шоу твердо знал, что Уайльд ни за что этого не сделает. «Я по-прежнему считаю, что отказ уклониться от суда был продиктован его неистовой ирландской гордостью», — писал он несколько позже биографу Уайльда Фрэнку Харрису. Кому, как не Шоу, было понятно, что такое «неистовая ирландская гордость»! Ирландское происхождение Уайльда, его ирландский характер так или иначе давали о себе знать на протяжении всей его жизни.
В настоящем сборнике письма расположены в хронологическом порядке, как и в английских изданиях, из которых они взяты. Отсюда — основные разделы, их девять. Каждый раздел — новый этап биографии, новое открытие мира.
Сначала — это открытие мира красоты, очаровывающей, покоряющей, возводимой в идеал, в культ, способный заполнить всю жизнь художника. Английский эстетизм, который представлял Уайльд вместе с архитектором, археологом, театральным деятелем Годвином и художником Уистлером, не был явлением однозначным. Дело не ограничивалось оригинальничанием и позой, не сводилось к вызывающему эпатированию общества. Эстетизм Уайльда естественно вырос из английского прерафаэлитизма, который нес в себе заряд острой критики современного ему общества с позиций красоты. Ей, красоте, созданной воображением художника, надлежало вступить в бой с безобразиями, порожденными современной действительностью.
В Оксфорде у Уайльда были превосходные учителя, Джон Рёскин и Уолтер Патер, оказавшие большое воздействие на формирование сознания целого поколения. Как и многие его сверстники, он зачитывался их книгами и заслушивался их лекциями. С глубокой признательностью, восхищением писал Оскар Уайльд, посылая Рёскину в 1888 г. свою книгу «Счастливый принц» и другие сказки: «В Вас есть что-то от пророка, от священника, от поэта; к тому же боги наделили Вас таким красноречием, каким не наделили никого другого, и Ваши слова, исполненные пламенной страстью и чудесной музыкой, заставляли глухих среди нас услышать и слепых прозреть». Прочитав запоем «Камни Венеции» Рёскина, «Ренессанс» Патера, вдохновленный их описаниями итальянского искусства, он во время первых же каникул в Оксфорде отправился в Италию, чтобы увидеть все собственными глазами. Вслед за тем он побывал в Греции, снова вернулся в Италию, опоздав на занятия, за что был наказан. Чувство прекрасного воспитывалось, развивалось на лучших образцах мирового искусства. Паломничество в Италию и в Грецию вело его к истокам европейской культуры.
Уже первое письмо, которым открывается настоящая книга, посланное Уайльдом матери из Милана, поражает полнотой видения природы и искусства, тончайшим ощущением красоты. Таким встает образ Венеции. Здесь важно и неотделимо друг от друга все — гондолы на Большом канале, дворцы с широкими лестницами, спускающимися к самой воде, желтые полосатые навесы над окнами, грузы фруктов и овощей, направляющиеся к мосту Риальто, где находится рынок, и луна, нависшая ночью над площадью св. Марка. Только пройдясь по городу или — еще лучше — проплыв по нему на гондоле, можно по-настоящему оценить шедевры, находящиеся в картинной галерее, почувствовать атмосферу церквей, построенных в барочном стиле, а вечером посетить гулянье щеголей, послушать оркестр. Красота пленяет и потрясает Уайльда до боли, до слез, лишает сил, а иной раз и способности выразить словами все в точности. Посетив Капеллу Джотто в Падуе, пробыв в ней более часа, преисполненный «изумления, благоговения и, главное, любви к изображенным им сценам», он признается матери: «О красоте и чистоте чувства, ясном, прозрачном цвете, таком же ярком, как в тот день, когда Джотто писал это, и гармонии всего здания я просто не могу рассказать тебе».
Неотразимое, магическое воздействие оказывала на Уайльда красота человека — его лица и тела. Вновь испытывал он необычайное волнение и восторг. Таково описание будущей жены — Констанс Ллойд, юной красавицы — изящной «маленькой Артемиды», с «глазами-фиалками» и «копною вьющихся каштановых волос, под тяжестью которой ее головка клонится, как цветок». Будто из слоновой кости и лепестков роз сделано лицо Альфреда Дугласа, впервые встреченного в 1891 г. У него «ангельское выражение». Впереди — годы разочарования, расплаты. Но сейчас Уайльд считает себя Пигмалионом, сумевшим оживить Галатею — он предчувствовал, предсказал Бози в только что законченном им романе «Портрет Дориана Грея».
Письма Уайльда то дополняют высказанное им в теоретических трактатах, эссе, часто имеющих форму диалога: «Упадок лжи» (1889), «Кисть, перо и отрава» (1889), «Критик как художник» (1890) и других, то отвергают выдвинутые там парадоксальные тезисы. Писатель вступает подчас в полемику с самим собой. И в письмах можно встретиться с мыслью, что искусство бесполезно, как бесполезен цветок. Ведь цветок расцветает ради собственного удовольствия, а мы радуемся лишь в тот миг, когда любуемся им. Уайльд повторяет свой вывод об искусстве как о высшей реальности, а о жизни — как разновидности вымысла. Но жизнь часто теснит искусство на страницах его писем, жизнь не желает оставаться в пределах вымысла. Чем дальше, тем больше Уайльд вспоминает о природе, чтобы почувствовать, в конце концов, в Рединге неодолимую тоску по великим первобытным стихиям — Морю, Солнцу, Земле. Потому что Земля — мать человеческая (а для ирландца Уайльда и Море было матерью не меньше, чем Земля). И Вода, и Огонь очищают человека. Все силы стихий несут в себе очищение. Его охватывает желание вернуться к ним.
Верил ли когда-нибудь Уайльд, подобно любимому им русскому писателю, что «красота спасет мир»? В известной степени — да. Если верил, тем трагичнее была утрата этой веры. Возражая против искусства как зеркала, он хотел набросить его, как покрывало, сотканное из драгоценностей, на жизнь и тем самым скрыть все ее уродства. Такая задача была явно не по силам ни одному художнику.
В гущу споров, скандалов, возникших после опубликования романа «Портрет Дориана Грея» (в 1890 г. в журнале, в 1891 г. отдельным изданием), вовлекают нас письма Уайльда. Прежде всего это письма к редакторам газет, где появились наиболее критические рецензии (в данный сборник включены письма к редактору «Скотс обсервер»). Нравственно или безнравственно произведение Уайльда? Мнения критиков раскололись. В «Крисчен лидер» и «Крисчен уорлд» роман объявили моральной притчей; в органе английских мистиков «Лайте» — произведением «высокого духовного смысла». Кто-то сравнил Уайльда с Л. Н. Толстым — дескать, оба «испытывают удовольствие, касаясь опасных тем». (Вероятнее всего «Портрет Дориана Грея» сопоставлялся с «Крейцеровой сонатой».) Кто-то, проявив поразительную стилевую нечуткость, вспомнил о Золя. «Сент-Джеймс газетт» предложила книгу сжечь. Рецензент «Дейли кроникл» пришел к выводу, что роман «порожден прокаженной литературой французских декадентов», что это «ядовитая книга, атмосфера которой тяжела от зловонных паров морального и духовного разложения». Автор «Портрета Дориана Грея» не мог смолчать. Одно за другим он строчил письма в газеты.
В посланиях, направленных редактору «Скотс обсервер» У. Э. Хенли, Уайльд останавливается особо на двух вопросах: кому адресовано его произведение и каково отношение автора к изображенным им героям и событиям, к добру и злу? Он не согласен с рецензентом Чарльзом Уибли в том, что роман будет прочитан самыми развращенными представителями преступных и необразованных социальных групп. Как раз эта часть общества, кроме газет, ничего не читает и абсолютно не способна понять смысл воплощенного в «Портрете Дориана Грея». Относительно широкого вопроса, почему вообще художник создает свои произведения, Уайльд высказывает следующие соображения: «Я пишу потому, что писать для меня — величайшее артистическое удовольствие. Если мое творчество нравится немногим избранным, я этому рад. Если нет, я не огорчаюсь. А что до толпы, то я не желаю быть популярным романистом. Это слишком легко».
Непростительную ошибку критика Уайльд видит в попытке поставить знак равенства между художником и предметом его изображения. Истинному творцу, современнику в особенности, воссоздавать зло доставляет не меньшее эстетическое удовольствие, чем добро. Впрочем, разве с меньшим увлечением воспроизведен Шекспиром характер нравственного урода Яго, нежели олицетворение непорочной чистоты — Имогена?
Создатель Дориана Грея не оправдывает его безнравственные поступки, равно как и всех остальных персонажей этого произведения. Но он далек и от прямого осуждения своего героя. Он хочет, чтобы читатели точно знали его замысел: для драматического развития характеров и событий «было необходимо окружить Дориана Грея атмосферой морального разложения. Иначе роман не имел бы смысла, а сюжет — завершения». Стремительное развитие действия в романе к трагическому финалу очевидно. Красота Дориана и его бесконечная юность не спасли его ни от неизбежной гибели, ни от безобразной старости. Красота, отторгнутая от нравственности, обратилась в тяжкое, невыносимое бремя. Уайльд добавляет: «Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи». Каждому читателю дано право решить, какое преступление из совершенных героем Уайльда страшнее — убийство художника Бэзила Холлуорда или уничтожение его картины. Уайльд открывает перед читателями «Портрета Дориана Грея» широкие возможности. Пусть тот, кто обладает художественными наклонностями, постигает выразительность, законченность, совершенство романа, его красоту. Те, для кого этика значит больше, чем эстетика, извлекут моральный урок. Одних чтение «Портрета Дориана Грея» наполнит ужасом, другие найдут в нем свои тайные желания. Мысль Уайльда движется к очередному парадоксальному суждению. Всякий человек обретает в искусстве то, что представляет собой сам. Происходит это потому, что и искусство отражает не столько жизнь, сколько того, кто наблюдает его.
Многое узнаем мы из писем Уайльда о деятельности его в качестве драматурга. Вопреки демонстрируемому им подчас пренебрежению к своему драматическому творчеству («Да, пьесы мои совсем не хороши! Я не придаю им никакого значения. Но вы представить себе не можете, как они меня забавляют! Почти все они написаны в несколько дней».) Уайльд очень серьезно относился как к театру вообще, так и к собственным комедиям и романтическим драмам. Уайльд-драматург вступал в полемику с Уайльдом-романистом, отвергающим популярность. Так, еще в 1880 г., закончив свою первую пьесу «Вера, или Нигилисты», Уайльд объявил, что «занимается драматическим искусством, потому что это демократическое искусство, а я хочу известности». Выступая с лекциями на тему «Ренессанс английского искусства», он выделял драматический жанр среди других литературных жанров, т. к. «в драме искусство встречается с жизнью, драма, по выражению Мадзини, имеет дело не просто с человеком, а с человеком общественным, с человеком в его отношениях к богу и человечеству».
Драма «Вера, или Нигилисты» посвящена России рубежа XVIII и XIX веков. Большими литературными достоинствами она, как считал сам автор, не обладала. Знание Уайльдом русской истории было весьма поверхностным. Но свои симпатии к русским тираноборцам создатель «Веры» выразил весьма определенно, наполнив пьесу романтическим пафосом и мелодраматическими эффектами. Зная слабости драмы, начинающий драматург тем не менее очень хотел, чтобы ее поставили на сцене. Премьера состоялась в Америке в 1883 г., но успеха не имела. Это отнюдь не обескуражило Уайльда.
Он заманивал лучших, знаменитых актрис в сети своей драматургии, желая сделать их соучастницами дальнейших замыслов. Эллен Терри он посвятил сонет, восхваляя ее мудрость в единении с красотой. О Саре Бернар в роли Федры написал стихотворение. Американку Мэри Андерсон он уверял, что создаст для нее пьесу, которая принесет ей славу «новой Рашели», а ему самому — «нового Гюго»: «Мечта Скульптора воплощается в холодном и немом мраморе, вымысел живописца застывает в неподвижности на холсте. Я же хочу увидеть, как мое творенье снова оборачивается жизнью, как написанные мною реплики обретают новый блеск благодаря Вашей страсти, наполняются новой музыкой, слетая с Ваших губ».
Оскар Уайльд был в полной мере человеком театра. Более того, вся его жизнь представляла своеобразный театр одного актера. Сменяли одна другую маски. Блистательно исполнив в молодости роль ирониста, денди, Принца парадокса, он, еще совсем не старым человеком (Уайльду было сорок лет во время суда, сорок шесть, когда он умер), явился в облике мученика в арестантском платье, изгоя. В свои «салонные комедии», написанные в короткий период — с 1892 по 1895 г., он внес ту атмосферу всеохватывающего светского маскарада, в которой сам существовал. Театр жизни и театр-творчество сливались. Персонажи нередко мыслили, как их создатель, говорили, как он, во всем походили на него. Как будто это сам Уайльд, покинув на время светские рауты, шагнул на подмостки, пленяя зрителей тонкостью жизненных наблюдений, парадоксальным сплавом скептицизма и бравады. Именно «салонные комедии» (а было их всего четыре — «Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным») принесли их автору и славу, и деньги.
Премьера «Веера леди Уиндермир» состоялась в театре «Сент-Джеймс» в том же 1892 году, что и премьера первой пьесы Бернарда Шоу «Дома вдовца» в «Независимом театре». Выходя на вызовы, оба автора вели себя достаточно эксцентрично. Шоу вступил в перебранку с публикой, не принявшей его «неприятную» драму, Уайльд, имевший шумный успех, тоже не удержался от колкости в адрес аудитории: «Я так рад, леди и джентльмены, что вам понравилась моя пьеса. Мне кажется, что вы расцениваете ее достоинства почти столь же высоко, как я сам». В начале 90-х годов последнего десятилетия XIX века Уайльд-драматург оказался значительно удачливее Шоу-драматического писателя. Его пьесы были нарасхват.
По-настоящему оценить значение драматургического наследия Уайльда сумел при его жизни, пожалуй, только Шоу, активно выступавший в это время в качестве театрального критика, подписывая свои статьи инициалами G. В. S. Он откликнулся на постановки всех его пьес и пришел к выводу, что имеет дело с единомышленником в критическом осмеянии нравов и быта современной Англии. «В некотором роде мистер Уайльд для меня единственный драматический писатель», — утверждал G. В. S. Он уточнял свою мысль: «Комедия, критика нравов и поведения viva voce [устно (лат.)] была его действительно сильным местом. В этой области он был великолепен». «Он играет всем: разумом, философией, драмой, актерами и публикой, театром в целом». В драматургии Уайльда G. В. S. различил «благородство ирландца XVIII века и романтический дух ученика Теофиля Готье».
Он категорически не соглашался со своими коллегами по перу, когда комедии Уайльда сближали с французскими «хорошо сделанными пьесами». Если Уайльд выбирал сходные ситуации — брошенные возлюбленные, потерянные и найденные дети, проданные государственные тайны и т. д., — то виртуозно переиначивал, переворачивал их. Он словно рентгеном просвечивал своих недавних собеседников и слушателей на званых обедах и парадных ужинах. Он не щадил английское общество, где политика — «это ловкая игра, а иногда просто вздор», а «человек, который не говорит на нравственные темы перед большой безнравственной аудиторией, не может считаться серьезным политиком», где «благотворительность — это то, что человек требует от других, но далеко не то, что он делает сам» и т. д. «О, ваше английское общество кажется мне мелким, себялюбивым, безрассудным. Оно ослепило себе глаза и заткнуло уши. Оно точно прокаженный в пурпуре. Оно — гроб поваленный. Оно насквозь испорчено, насквозь развратно!» — негодующе восклицает молодая американка Эстер, выведенная Уайльдом в «Женщине, не стоящей внимания». Не принял G. В. S. лишь одну пьесу Уайльда — последнюю, «легкомысленную комедию для серьезных людей» — «Как важно быть серьезным» (из-за ее легкомыслия). А зря, т. к. никогда Уайльд не создавал столь жизнерадостного, светлого, изящного произведения, без тени горечи или надлома, как это, написанное в преддверии мрачного эпилога его жизни, когда тучи уже сгущались над его головой.
Уайльд посещал репетиции своих пьес. Когда не мог присутствовать, посылал письма Джорджу Александеру, постановщику комедий в театре «Сент-Джеймс». Каким он видел свой комедийный театр? Прежде всего театром Слова. Он придавал большое значение звучанию текста, возражал против сокращений. «В комедийных сценах люди должны говорить более внятно и отчетливо. Каждое слово комедийного диалога должно доходить до слуха зрителя», — просил он режиссера, исполнявшего также главные мужские роли. Второе, чего он добивался, — это точное исполнение «психологического рисунка» пьесы, подчинение этому рисунку сценических эффектов. Недовольный собой, Уайльд жаловался, что никак не может совладать с пьесой («Веер леди Уиндермир»): «Не могу сделать персонажей реальными и живыми». А реальными и живыми они непременно должны были стать. Зато полное равнодушие проявлял Уайльд-комедиограф, истинный представитель европейской драмы конца XIX века, к динамике развития внешнего действия. Он даже сознательно пренебрегал им. На упреки, сделанные в адрес его первой пьесы, Уайльд отреагировал весьма своеобразно: «Я написал первый акт «Женщины, не стоящей внимания» как ответ критикам, утверждавшим, что «Вееру леди Уиндермир» не достает действия. В первом акте пьесы, о которой идет речь, не было вообще никакого действия. Это был превосходный акт».
Совсем иначе сложилась судьба романтических, символистских драм Уайльда. В первую очередь «Саломеи», написанной по-французски. Почему по-французски? Этот вопрос Уайльду задавали не раз. Согласно одной версии, потому, что с самого начала роль Саломеи предназначалась для Сары Бернар. (Хотя другая версия опровергает это.) Ему уже слышался голос прославленной французской актрисы, произносящей его текст, ее неповторимые, напевные интонации. Иногда он говорил, что, овладев одним инструментом — английским языком, хочет попробовать свои силы, играя на другом, — имелся в виду французский язык, которым он владел в совершенстве. А однажды он сказал своему другу, поэту и писателю Пьеру Луису: «Не знаю. Так получилось. Впрочем, англичане этого бы не поняли».
Сочиняя «Саломею», Уайльд жил в Париже, где он проводил много времени, где у него были близкие друзья и многочисленные почитатели. Он не раз замечал, что во Франции его ценят и понимают больше, чем в Англии. Грозился, что уедет из Англии во Францию навсегда. Отплыл во Францию в тот же день, когда вышел из тюрьмы в 1897 г. Прожил оставшиеся ему немногие годы во Франции, похоронен в Париже. Сделай он это раньше, накануне суда, и вся его жизнь могла повернуться по-другому. Но поступить иначе он не смог.
Англичане не поняли «Саломею», как и предсказывал Уайльд. В 1892 г. английская цензура запретила постановку пьесы, переведенной на английский язык. Запрет был наложен, т. к. в «Саломее» изображены библейские персонажи, а им не надлежит появляться на сценических подмостках. Но, как и в случае с «Портретом Дориана Грея», обсуждались и другие вопросы: противопоставляет ли Уайльд красоту нравственности, как отнестись к переизбытку чувственности в поведении действующих лиц? Сара Бернар успела приехать в Лондон, выбрала костюм, парик и начала репетировать. Но цензура действовала с непререкаемой категоричностью. Репетиции были прерваны. Уайльду так и не удалось никогда увидеть исполнение своей самой знаменитой пьесы, имеющей долгую и интересную сценическую жизнь. Первое представление «Саломеи» состоялось в Париже в театре «Эвр» в 1896 г., когда ее автор еще находился в тюрьме, и все его драматические произведения были решительно запрещены в Англии. Впервые в Лондоне «Саломею» сыграли только в 1905 г.
(Тем более интригующе выглядит помещенная в монографии Ричарда Эллмана фотография Оскара Уайльда в костюме Саломеи. Единственная информация — фото взято из коллекции Гийо де Сэ и Роже Вийоэ, находящейся в Париже. Облаченный в костюм Саломеи, в парике с длинными вьющимися волосами, с украшениями на голове, на шее, на поясе, Уайльд опустился на одно колено, протянув руки к блюду с головой Иоканаана. Скорее всего эта поза принята специально для фотографа.)
Письма Уайльда отражают его тщетное единоборство с английской цензурой. Тщетное, потому что оно так и не увенчалось успехом. Единоборство, т. к. в борьбу он вступил фактически один. Лишь двое из критиков поддержали его: конечно, Бернард Шоу и его друг Уильям Арчер, выступивший в печати против запрета «Саломеи». Уайльд был бесконечно благодарен обоим: «Презренной официальной тиранией» в отношении драмы назвал он английскую цензуру, призвал добиваться ее упразднения. «Вы превосходно, мудро и глубоко остроумно писали о нелепом институте театральной цензуры», — солидаризировался он с Шоу, который на собственном опыте также познал, что это такое (вскоре после «Саломеи» была запрещена его пьеса «Профессия миссис Уоррен»). Вновь вспоминал о своем ирландском происхождении: «Я не хочу считаться гражданином страны, проявляющей такую ограниченность в художественных суждениях. Я — не англичанин. Я — ирландец, а это совсем другое дело». Автор «Саломеи» огорчался, что в битве с цензурой его не поддержали актеры, прежде всего лидер английской сцены Генри Ирвинг.
А из Франции тем временем летели благодарственные письма в ответ на посланные экземпляры «Саломеи», со словами сочувствия, а часто и восторга… «Дорогой поэт, — обращался к Уайльду Стефан Малларме. — Я восхищен тем, что в Вашей «Саломее», где все выражено ослепительно точными словами, в то же время на каждой странице ощущается что-то невысказанное, неуловимое, как сновидение или мечта. Так россыпь драгоценных камней, украшающих одежды принцессы, может служить лишь обрамлением ее поразительного поступка, который столь решительно Вами воскрешен». «Сказку лунной ночи» увидел в «Саломее» поэт и писатель Пьер Луис. «Это прекрасно и грозно, как глава Апокалипсиса», — заключил Пьер Лоти. «Таинственная», «странная», «восхитительная» — такими были определения, данные «Саломее» Морисом Метерлинком, общепризнанным лидером не только французской, но и европейской символистской драматургии. Он замечал, что еще не может до конца объяснить себе силу и природу воздействия этой «грезы».
В «Саломее» эстетизм Уайльда максимально сблизился с французским символизмом. «Саломея» предполагала совсем другой театр, нежели «салонные комедии». Это должен был быть театр красоты и смерти. Уайльд написал трагедию, хотя и указал в подзаголовке к «Саломее» — «драма». Трагическими героями были оба: и Саломея, и Иоканаан. Трагедия непонимания сочеталась с трагедией обреченности красоты. Как и подобает символистскому произведению, действием правила Смерть. К «Саломее» вполне применимы были слова Уайльда о том, что интеллектуальной основой его драм «является философия нереального». «Саломея» — одно из самых ярких и последовательных произведений декадентского искусства — искусства конца века. Эта пьеса Уайльда никак не вписывалась в английскую драматургию 90-х, стояла в ней особняком. Ее общеевропейское значение было и остается неизмеримо большим. Эстетизм Уайльда достиг своих вершин в «Портрете Дориана Грея» и в «Саломее». Вместе с тем именно эти произведения выявили кризис данного художественного течения, в чем-то сомкнувшегося с входящим в моду стилем модерн, но так и не слившегося с ним, всегда ощущая преграду, как существовала эта преграда между текстом «Саломеи» и рисунками к ней Обри Бердслея.
И вдруг рухнуло все. С молотка пошли художественные ценности, коллекции, любовно собиравшиеся Уайльдом на протяжении ряда лет: картины Уистлера и рисунки Берн-Джонса, фарфор и книги с дарственными надписями, школьные и университетские награды. Что-то было просто растащено. Дом на Тайт-стрит, где поселился Уайльд после женитьбы, опустел. Жена и дети покинули его. Вскоре Уайльд был лишен отцовских прав. Констанс и сыновья — Сирил и Вивиан — стали носить другую фамилию.
Уайльд не оправдывал себя. Он упоминал в «De Profundis» о том, что «гениальности часто сопутствуют страшные извращения страстей и желаний». Отныне письма на бланках с печатями «Тюрьмы Ее Величества, Холлоуэй», «Тюрьмы Ее Величества, Рединг» стали единственным доступным ему литературным занятием, а также основной связью с жизнью вне стен тюрьмы. Новое открытие мира — открытие мира страданий. Уайльд отдался познанию этого мира всем своим существом, всеми помыслами и чувствами. Он узнавал людей, с какими ему прежде не приходилось встречаться. Он познавал себя такого, каким ранее не знал. Пережитое ранее вновь и вновь возникало перед его глазами.
Огромная «Тюремная исповедь» или «De Profundis» словно обрамлена гирляндой других писем, также несущих в себе ту или иную долю исповедальности. Уайльду кажется, что весь мир страданий сосредоточился теперь в нем. Он — символ страданий человеческих.
В эпиграф статьи вынесены слова, обращенные к Бози, о «смысле Страдания и Красоте его». Что имел в виду Уайльд под красотой страдания и сочетаются ли вообще эти понятия? Он исходил из призыва Христа, выведенного им: «Живите ради других». Страдание и красота могли соприкоснуться лишь в том случае, если, страдая сам, человек тем более обостренно воспринимает мучения других людей. В том случае, когда он обретал способность сострадать. «Ничто в мире не бессмысленно», — утверждает Уайльд. «Страдание и все, чему оно может научить, — вот мой новый мир» — таков сделанный им вывод. Страдание — наивысшее из чувств, доступных человеку, оно одновременно предмет и признак великого Искусства, высшая ступень совершенства. Страдание — единственная истина. В тюрьме для всех, кто там находится, страдание — «способ существования, потому что это единственный способ осознать, что мы еще живы, и воспоминание о наших былых страданиях нам необходимо, как порука, как свидетельство того, что мы остались самими собой».
Особую боль вызывали у Уайльда дети, находящиеся в тюрьме. То обращение с детьми, с которыми он встретился в Рединге, Уайльд не мог назвать иначе, чем «вызовом человечности и здравому смыслу».
А встреча на прогулке с бывшим кавалеристом, убившим жену и приговоренным к смертной казни, легла в основу последнего поэтического произведения Уайльда — «Баллада Редингской тюрьмы». Сначала он был поражен легкостью походки арестанта, почти радостным взглядом, устремленным на клочок голубого неба, едва заметного над тюремным двором. Затем он узнал его историю. «Памяти К. Т. У., бывшего кавалериста Королевской Конной гвардии», была посвящена баллада с точным указанием даты смерти: «Скончался в тюрьме Ее Величества. Рединг, Беркшир, 7 июля 1896 г.». Недаром эта поэма привлекла внимание Валерия Брюсова, сделавшего перевод.
Если вы хотите провести время в компании очаровательных девушек, переходите по ссылке https://kirovsm.com.
«Я сам страдал, но позабыл я
О бедствии своем», —
передает русский поэт-символист мысль и чувство, охватившее Уайльда, узнавшего о страшном приговоре:
«Он ту убил, кого любил он,
И вот за то умрет».
Атмосфера ожидания казни окутывает балладу — атмосфера, в которой царят Смерть, Ужас и Судьба. Спит приговоренный к смерти. Но не спят другие арестанты, потому что в их души грозно вполз страх за того, кому нельзя помочь. Они молятся за него, быть может, первый раз в жизни. И кажется им, что тени, привидения окружают их в этот момент:
«Недвижимы, немы были все мы,
Как камни горных стран,
Но сердце с силой било, словно
Безумец в барабан».
Уайльд в «Балладе Редингской тюрьмы» почти не пользуется местоимением «я», только — «мы». Он не отделяет себя от других арестантов. Письма, написанные в тюрьме, вовлекают нас в сложный духовный процесс, переживаемый Уайльдом. Противостоять безумию, во что бы то ни стало сохранить разум. Не сломаться! В «De Profundis» Уайльд убеждал самого себя, Бози и всех, кому доведется прочитать это сочинение, что, отправляясь в тюрьму, он сказал себе: «Любой ценой я должен сохранить в своем сердце Любовь. Если я пойду в тюрьму без Любви, что станется с моей Душой?» Там же он заверял, что постиг в своих мытарствах бесценное, что скрывалось в глубинах его души, словно клад в земле, — Смирение, «самую странную вещь на свете». Но давалось это с большим трудом и не удалось до конца.
И искушение смерти испытал Уайльд, и волны безумия захлестывали его. Он начал терять слух и зрение. Бывали моменты, когда весь мир представлялся ему тюрьмой. «Ужас смерти, который я здесь испытываю, меркнет перед ужасом жизни», — писал он Роберту Россу, ставшему ему в эти годы ближе всех. Еще за несколько месяцев до того, как покинуть Рединг, он делился с ним: «Даже, если я выберусь из этой отвратительной ямы, меня ждет жизнь парии — жизнь в бесчестье, нужде и всеобщем презрении». Он знал, что выброшен из английской литературы.
Из тюрьмы вышел больной, измученный человек. Это был другой Уайльд, чем тот, который получил известность в пору расцвета своего таланта. Он был способен писать только о тюрьме и Страданиях. «Балладу Редингской тюрьмы», опубликованную в 1898 г., Уайльд подписал своим тюремным номером — «С. 3. 3.». За первым изданием последовало второе, третье. Английские критики, не догадываясь, кто скрывается за подписью «С. 3. 3.», объявили, что баллада принадлежит к шедеврам английской литературы, что «уже много лет не появлялось ничего подобного». Фамилия Уайльда была указана лишь на седьмом издании в 1899 г. Больше ни одного художественного произведения он не написал. Его творческие силы иссякли.
Начались годы скитаний и нищеты. Последнее оказалось особенно унизительным. «Трагедия моей жизни стала безобразной, — писал он Андре Жиду. — Страдание можно, пожалуй, даже должно терпеть, но бедность, нищета — вот что страшно. Это пятнает душу». Замыслы новых произведений смутно мелькали и исчезали, не успев реализоваться. То на берегу Средиземного моря он задумывал балладу о Молодом Матросе, славящую свободу, веселье, то делился с другом, Фрэнком Харрисом, планом комедии, действие которой должно было протекать в сельском замке с бастионами времен Тюдоров, с павильонами в стиле королевы Анны, со стрельчатыми окнами и ветхими башнями, то вдруг сообщал озабоченным его судьбой друзьям, что давно подумывает о написании библейских драм и новелле об Иуде. Друзья собирали деньги, помогали Уайльду, как могли, и все ждали, что к нему вернется его дар писателя, способного за несколько недель или дней сочинить новую драму, роман. Увы, их ожидания не оправдались. Сменялись города, страны — Франция, Италия, Швейцария. Уайльд словно бежал от самого себя, чтобы вернуть привычные и надежные прежде источники вдохновения. Не помогали ни красоты Италии, ни солнце и море Лазурного берега, ни шумная толпа парижских улиц, в которой можно раствориться, не испытывая одиночества.
Вновь вошел в жизнь Уайльда Бози, отвергнутый и прощенный, приближенный, как еще одна попытка возродить в себе творца. «Быть с тобой — мой единственный шанс создать еще что-то прекрасное в литературе, — молил Уайльд. — Раньше все было иначе, но теперь это так, и я верю, что ты вдохнешь в меня ту энергию и ту радостную мощь, которыми питается искусство. Мое возвращение к тебе вызовет всеобщее бешенство, но что они понимают. Только с тобой я буду на что-то способен. Возроди же мою разрушенную жизнь, и весь смысл нашей дружбы и любви станет для мира совершенно иным». Но и эта попытка не увенчалась успехом, а новую волну бешенства в Англии она, как и предполагал Уайльд, вызвала. Умерла Констанс. Не было никакой надежды увидеться с сыновьями.
Все острее ощущал Уайльд свое положение изгоя. Горечь и беспросветное одиночество все более овладевали им. Когда рядом находился кто-либо из самых близких друзей, эти чувства притуплялись, стоило им уехать, как отчаяние, страх сковывали его душу. И вслед уехавшим летели письма, полные печали, тоски, безнадежности. Нет, он не забыл о «счастье благодарности». («Неблагодарному трудно идти по земле, ноги и сердце у него как свинцом налиты. Но если ты хоть в малой степени познал счастье благодарности, ноги твои легко ступают по песку и водам, и ты готов со странной, внезапно открывшейся тебе радостью вновь и вновь исчислять не владения свои, а долги. Их я коплю ныне в сокровищнице сердца, и, один золотой к другому, бережно перебираю на утренней и вечерней заре».) Проникнутые грустью и болью, письма оставались письмами поэта, художника с тонким вкусом, с великолепно развитым воображением, чуткого к любым проявлениям чувств. Многие из писем — Россу, Харрису, Ротенстайну, Максу Бирбому и другим — отправлялись в Англию, так близко расположенную и в то же время такую далекую и чужую.
Собственно Оскара Уайльда как бы уже вообще не существовало. В случайных отелях проживал некто — Себастьян Мельмот. Такой была последняя маска Уайльда, выбранная им самим. «Мельмот-скиталец» — название популярного в начале XIX века романа ирландского писателя Мэтьюрина, приходившегося к тому же двоюродным дедом Уайльду. Себастьян — возможно, в честь святого Себастьяна, пронзенного стрелами. Его изображения итальянскими художниками очень любил Уайльд, в особенности картину Гвидо Рени. Так слились романтические традиции и трагизм судьбы мученика-христианина в заключительном «театральном портрете» Уайльда.
Он подошел к своей последней черте. Его мысли еще раз обратились к богу, к Христу: «Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить их опасаться друг друга». Зная, что «Баллада Редингской тюрьмы» — его лебединая песня, Уайльд сожалел, что «кончает криком боли, стенанием Марсия, а не песнью Аполлона». Он все твердил, что «радость жизни» («la joie de vivre», — писал он по-французски) ушла из него, что Жизнь, которую он так любил — слишком любил, — «растерзала его, как хищный зверь».
Несколько раз Уайльд намеревался принять католичество, но по разным причинам этого не сделал. 20 ноября 1900 г. написано последнее письмо. 30 ноября его не стало. К постели умирающего Уайльда успели пригласить католического священника, который совершил крещение и предсмертное помазание.
Надгробный памятник скульптора Джейкоба Эпстайна на парижском кладбище Пер-Лашез изображает фантастическое существо, напоминающее Сфинкса. Загадочному, полному тайн Сфинксу, «молчаливому и прекрасному», Уайльд посвятил в молодости поэму. Огромные крылья Сфинкса приподняты и готовы к полету. У этого странного чудовища, соединившего в себе черты человека-пророка и вестника, зверя и птицы, такие же длинные руки, как и у Уайльда. Что-то общее можно угадать в разрезе глаз, видящих все, в очертании губ, складывающихся в надменную, ироническую усмешку. Каменный Сфинкс принадлежит вечности, равно как и покоящийся под ним поэт. Подобно Сфинксу, всю жизнь он загадывал загадки современникам. Часть из них помогают разгадать его письма. Но осталось еще немало нераскрытых тайн.
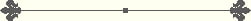
2015– © «Оскар Уайльд»