

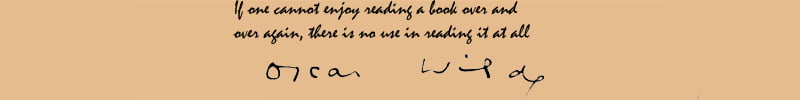
Оскар Уайльд. Хармид
Charmides - Хармид
I
В родной Коринф из дали италийской
Галера шла с инжиром и вином.
В ночи растаял очерк сицилийский,
А юный грек, о чем-то об одном
Мечтавший с отрешенностью во взоре,
Глядел вперед, где вал вставал где бушевало море.
Когда ж заря легла на грань копья,
Прошило небо золотою нитью,
И встал рассвет, канатами скрипя,
И лоцман поворот придал событью,
И дул норд-вест им слева день-деньской;
Вели с тоской в толпе людской речитатив морской;
И шли, и шли, и вот настало время,
И родину увидел юный грек;
Оливковым венком украсил темя,
И пену отряхнул с бессонных век,
И, умащен, на долгожданный роздых
В тунике заспешил на брег, в сандальях медногвоздых,
В хламиде, что впитала рыбий жир
И что купил он прежде, теша взоры,
У сиракузца — сколь измыслил Тир
Ее великолепные узоры! —
И путь спросил, и удалился в тень
Серебряных дерев; когда ж труждающийся день
Пурпурных туч распутал паутину,
Он в храм вошел, стоявший на холме;
Молился жрец, и он, зайдя за спину,
Увидел, затаившись в полутьме,
Как там заклали первенца ягненка
И как, робея, пастушок там соль посыпал тонко.
На жертвенное пламя, как он свой
Пастуший посох посвятил Богине,
Чтоб жертвою живой и неживой
От волчьей хватки охраниться ныне;
И девий хор запел, чистоголос,
И всяк во храме к алтарю свой добрый дар понес:
Сукно с изображением охоты,
Сосуд с молочно-пенною каймой,
Душистозлатокаплющие соты,
Клеенку для борцов; кабан лесной,
Не избежавший жертвенной планиды,
Похищен был у девы, у ревнивой Артемиды,
И обречен Афине; также в храм
Пришли с пятнистой шкурою богатой
Оленя, лишь недавно по горам
Скакавшего; но — прокричал глашатай;
Все двинулись на выход; всяк был рад:
Он выполнил простой обет, что с детства мил и свят.
Светильники, тускнея, гасли в нише,
И лишь один не гаснул, как рубин;
Звучала лира — тише, тише, тише:
То удалялся к дому селянин;
И грозный стражник, служащий при храме,
Врата латунные закрыл могучими руками.
А юный грек стоял, едва дыша,
И капель винных слышал он паденье;
Венки из роз трепал и вороша,
Ночные бризы, словно в наважденье,
Блуждали меж колонн, когда луна
Всем серебром, каким тогда была полным-полна,
Пол мраморный кругом покрыла щедро;
И вышел юноша из тайника,
И вскрыл он створы из резного кедра,
И злой Грифон взглянул на смельчака
С огромнейшего шлема; враг шафранный
Метнул копье — огонь и гром, — бросая вызов бранный.
Горгоны колыхнулась голова;
Свинцовый взор попрал свои орбиты;
Зашевелились гады, как листва;
Вскривились губы, ужасом повиты,
В бессильной страсти; ухнула сова,
От изумления в себя придя едва-едва.
Рыбарь пустынный с острова Итака,
Когда он ставил сети на тунца,
Коней услышал грозную атаку,
Дробящих вал без края, без конца.
И бурный шквал раздвинул шторы ночи;
Рыбарь молитву зашептал, терпеть не стало мочи.
Развратников разгульная орда
Забыла беззаконные отрады:
Дианы крик им грезился тогда
Чернобородых стражников отряды
Рванулись торопливо ко щитам:
Враги мерещились во тьме им тут, и там, и там.
И вздрогнул храм; и мраморные страхи
Вошли в двенадцать мраморных богов;
И Посейдон в неистовом размахе
Воздел трезубец к зыби облаков;
На фризе ржали каменные кони;
Мир оглашал и оглушал растущий шум погони.
Но ждал герой у роковой черты,
Что боги призовут его к ответу
За мрамор беспощадной чистоты,
За девственность безжалостную эту;
Лишь Илиона царственный пастух
Когда-то зрелищем таким поработил свой дух.
И вдруг на фризе стихнула квадрига;
Как видно, рано было, умирать;
И он сорвал, одежду, словно иго,
Убрал с чела каштановую прядь;
Кто выдержит любовной пытай пламя?
Он близко-близко подошел — и дерзкими руками
Доспехи отстегнул ей, снял хитон,
И обнажил нетронутые груди,
И пеплос развязал; увидел он,
Чего еще не видывали люди:
То были бедра снежной белизны,
Что явь мужскую бередят и будоражат сны.
Кто не грешил в любовной лихорадке,
Тому читать все это смысла нет;
Тому мои мелодии несладки,
И для того я просто не поэт;
Безгрешные, мы с вами незнакомцы;
Рассказ продолжу лишь для вас, — о, Эроса питомцы!
Он по скульптуре взором не блуждал,
Он вперил очи в узкое пространство;
Он голод свой навек предупреждал;
Мутило от фантазий, как от пьянства;
Он целовал богиню, целовал;
Он для желаний и страстей границ не признавал;
Свиданье было необыкновенно;
С отвагою касался он всего,
Что прежде было неприкосновенно,
Заветно и запретно для него.
Он к грудям полированным, холодным
Живое сердце прижимал с его теплом природным.
Казалось, нумидийцы без числа
Метали копья в мозг разгоряченный;
Любовь, как струны, нервы напрягла;
Любовь терзала мукой утонченной;
Он, увлеченный, жаждал новых мук,
Однако жаворонка трель оборвала их вдруг.
Не видевшему острого прищура,
С каким глядит светило в полутьму,
Встававшему безрадостно и хмуро
С боготворимой плоти, — нет, ему,
Что ни спою, все песни будут всуе
О расставанье, о последнем долгом поцелуе.
Луна плыла в хрустальном ободке, —
Для морехода грозная примета, —
Звезда текла в печальном далеке,
Подрагивали крылышки рассвета,
Заря уже ходила по дворам,
Когда герой на утре дня покинул строгий храм.
Сбежал он быстро вниз по косогору;
Пещеру Пана минул; храп сквозь сон
Раздался козлоногого в ту пору;
Вскочил на холмик травянистый он
Оленем годовалым шаловливым
И в благолиственную сень направился к оливам.
Он побежал к знакомому ручью,
Где он на чомг устраивал охоту,
Где часто сеть забрасывал свою,
В которую форель несло с излету,
И, прибежав, прилег у камыша,
От сладостных своих тревог едва дыша.
В теченье вод, что место освежало,
Он равнодушно руку опустил.
Дыханье утра щеки остужало,
А юноша грустил, и не грустил,
И с непонятной, тайною улыбкой
Он вглядывался в глубину, в поток живой и зыбкий.
И в эти же рассветные часы
В плетеный хлев побрел пастух косматый;
Поплыл в поля, где вызрели овсы,
Кудрявый дым печной голубоватый;
Брехали псы; скотина шла гуртом
И величавый чистоуст копытила кругом.
Когда с утра веселыми ногами
Вошли в траву лихие косари,
Когда заблеял агнец меж лугами,
И коростель проснулся от зари,
Заметили героя дровосеки
И подивились красоте, невиданной вовеки.
«То Гилас, — молвил первый дровосек, —
Беглец невольный; это он, прекрасен,
С наядой делит ложе, и навек
Забыл Геракла ныне». «Не согласен, —
Второй промолвил. — То Нарцисс, дружок:
Он сам себе любовница, и сам себе божок».
И подошли, и третий в удивленье
Воскликнул: «Поохотился и спит,
Расставшийся со шкурою оленьей
И шумной свитой женщин-Бассарид
Сам Дионис! Держитесь-ка подале:
Не любят боги смертных тех, что въяве их видали».
И отступили с ужасом в душе,
И объявили прочим: плохи шутки
С тем божеством, что. нынче в камыше
Так сладко почивает; и на сутки
Оставили в покое те места,
И не срубили топоры ни пальмы, ни куста;
Лишь паренька, голодного подпаска,
В окрестности случайно занесло;
«Эй, кто-нибудь!» — покликал "он с опаской,
Но не было ответа, как назло;
И чуждый край походкой торопливой
Покинул он; — лишь на поляне ближней молчаливой
Вдруг появилась девушка одна,
Не знавшая любовные секреты;
Мужские руки — свет и белизна —
Мужская стать — не снится ли все это?
Его глаза — в них страсть и смех над ней,
Такой невинной, — и она ушла под сень теней.
А дальний град гудел под каждым кровом;
Все ярче и пронзительней был смех
Детей здоровых в воздухе здоровом,
Которые резвились без помех;
И стриженый валух повел овечек —
Динь-динь — напиться — динь-динь-динь — из чистых мшистых речек.
Зудел комар в плакучем ивняке;
Трещал кузнечик — вот бездельник истый! —
И водяная крыса на реке
Блестела шкуркой гладкой, маслянистой;
На ветку с ветки зяблик полетел;
И черепаха поползла в зыбучий свой предел.
Когда дрозды в затоне свиристели,
И ветер нес над полем семена,
И косы в луговинах шелестели,
Была команда лоцманом дана:
Пусть рулевой усилием минутным
Галеру к ветру приведет, чтоб стал противопутным.
Но юноша, причина всех тревог,
Прелюбострастным пламенем палимый,
Что таинствами дерзко пренебрег,
Завидя взор прямой, неумолимый,
От счастья вспыхнув, крикнул: «Я иду!»
И рухнул вниз, и в пене волн исчезнул, как в бреду.
Одной звезды лишился свод небесный;
В кругу плеяд угас один танцор;
О, месть была воистину чудесной!
Паллада понеслась во весь опор
В Афины; ей, богине оскорбленной,
Вослед журчали пузырьки: то умирал влюбленный.
Тряхнуло мачту; ухнула сова
И догнала Воительницу махом;
Матросов лоцман упросил едва
Поставить парус; рассказал со страхом
О призраке гигантском за кормой;
Галера ласточкой в предел влетела штормовой.
И, словом не обмолвясь о Хармиде,
Чтоб не наделать, случаем, беды,
Явились к Симплегадам в лучшем виде
И, вытащив галеру из воды,
Там, на ближайшей площади базарной,
Товар свой сбыли расписной коричневый гончарный.
II
Добряк Тритон понес его к земле;
Сочувствуя его предсмертной муке,
Разгладили морщины на челе
И разогнули сомкнутые руки
Ему русалки, плывшие с мольбой:
«Спой колыбельную ему, спой, зимородок, спой!»
Вблизи Афин старинных, легендарных
Внезапный вал восстал из глубины,
И были фрески образов кошмарных
В сгущеньях пены запечатлены;
И, словно конь, что мчит на свет хозяйский,
Хармида белогривый вал доставил в угол райский.
Там, где Колон равниной луговой
Уходит к морю, кролики и фавны
Резвятся мирно; и пчелиный рой
Туда летит с Гимета — вот как славно
В краю благословенной тишины,
Где только крики пастушков играющих слышны.
И часто там глядит из лабиринта
Ветвей, сучков, колючек и стволов
Охотник на красавца Гиацинта,
Что диск отполированный готов
Метнуть в пространство; красотой сраженный,
Охотник отступает в лес с улыбкою смущенной.
И мячик там бросают наутру
В камышной балке юные дриады;
И охраняет эту шумную игру
Пан козлоухий; и резвуньи рады:
Из-за дриад Нептуна гложет страсть;
Чешуерукий бородач любую рад украсть.
Под аркою, ведущей в грот скалистый,
Ракитник золотистый там навис;
Там гладок пляж — лишь контур свой волнистый
Волна, сходя, как памятный девиз,
Там чертит на песке, как бы в боязни,
Что друг-тростник забудет вмиг о ней, своей приязни.
Столь угол мал, что с каждого цветка
Там до полудня бабочке нетрудно
Весь мед собрать, но жадного брюшка
Все ж не насытить; а причаль там судно
И пожелай какой-нибудь матрос
Гирляндою цветов украсить корабельный нос,
Он там лужок почти оставит голым,
Не пощадив природной красоты;
Не тронутые грубым произволом,
Одни нарциссы в блеске простоты
Взволнуются — и всяк с усердьем рьяным
Махнет обидчику едва заметным ятаганом.
Сюда Хармида принесла волна,
Счастливая повинностью такою;
И много-много раз еще она
Любовницей, не знающей покоя
То убегала вдаль, то льнула вновь
К холодным членам, где недавно бунтовала кровь.
Пока не зашипели воды моря
Над самовозгорающим огнем
И смерть не застудила в злом задоре
Двух лилий, что покоились на нем,
Где с белым красный цвет перекликался,
Когда, бывало, юный грек сквозь дебри пробирался.
А утром нимфы, жившие в леске,
Пришли сюда; сатир еще с опушки
Увидел тело на морском песке;
Боясь Нептуна и его ловушки,
Как солнечные блики по листам,
Дриады юные стремглав помчались по кустам.
И лишь одной желанны стали руки,
Объятья океанского царя:
Пусть груди ей сожмет в любовной муке,
И пусть несет, лукавя и хитря,
Любовный бред, и пусть, добившись цели,
Крадет сокровище, найдя подходы к цитадели,
Грехом не почитая воровство!
И рядом возлегла она, и стала
Играть густыми прядями его,
И жаркими губами целовала,
Боясь, что вовсе не проснется он
Или проснется, но умчит, иными увлечен.
Забавы новой не было чудесней!
Держа его за руку, день-деньской
Дриада изливалась в чудной песне,
Но под конец отметила с тоской,
Сколь он бесстрастен; знать бы ей, невинной,
Что он всего три дня назад
встречался с Прозерпиной.
Что святотатство — на его устах!
Но молвила она: «Как щит свой красный
Светило дня повесит на вратах,
Вратах Коринфа, — встанет мой прекрасный:
Он мнимым равнодушием ко мне
Желает мне внушить любовь; в морях, на самом дне,
Что сеть бы никакая не достала,
Уже трубит громаднейший Тритон,
Уже гирлянду вьет он из кристалла,
И усиком морским желает он
Отделать ложа брачного колонны;
Мы, в серебре, коралловые водрузив короны,
Вдвоем воссядем на жемчужный трон,
И полог заколышется волнисто,
И змеи приползут со всех сторон,
И будет их доспех из аметиста,
И мы увидим, вглядываясь в даль,
Как над разбитым кораблем проносится кефаль,
И плавнички там вспыхнут ярко-красно,
И глазки златом выпуклым блеснут;
Предстанет глубь очерченно и ясно,
Дельфины разноцветные уснут,
И, тихо колыбельную затея,
Нам зимородки оживят владения Протея.
Так двинемся ж по зеркалу, легки,
Пусть анемоны нас проводят с пляжа,
И встрепенутся рыбьи косяки,
Блуждающие в космах такелажа,
И тысячи янтарных пузырьков,
Взойдя, украсят нам тела и брачный наш альков».
Но в час, как Солнце, сей Владыка Брани,
Флажок на пике воздымая ввысь,
В свой медный Дом вошло, и по поляне,
По лугу неба звезды разбрелись,
Ей стало страшно: здесь души не чают,
Так почему уста устам никак не отвечают?
И возопила: «Жидким серебром
Луна мой лес давно уже омыла.
Проснись и встань! Лягушки за бугром
Уже умолкли; козодой уныло
Кричит в пещере; чу! движенье стай
Мышей летучих; по траве крадется горностай.
Пускай ты бог, чего ты застеснялся?
О том недаром шепчут камыши,
Кто с местною дриадой забавлялся
И был, как ты, любимым от души,
Но, сделав дело, бросил он подругу;
Взлетел на крыльях золотых
он к солнечному кругу.
Что застеснялся? Лавры шелестят
От мягких поцелуев Аполлона,
И ель, чьи сестры рядышком стоят,
С приморского поведать может склона
О нем, бесчинце с именем Борей;
При мне гримасничал Гермес
меж пышных тополей.
Мила я и ревнивицам Наядам;
Ко мне пастух приходит молодой;
То яблоком дарит, то нежным взглядом;
Мой девственный отказ поклонник мой
Смягчить хотел бы; он вчера в подарок
Принес голубку, чей плюмаж был, словно ирис, ярок,
А ножки — красные; жестокий вор
И семь пятнистых взял ее яичек;
Он совершил губительный разор,
Когда ее защитник и добытчик
За ягодой отправился в леса,
За можжевеловой, ее любимой; и оса
Не вьется так у грозди винограда,
Как вертится вокруг меня пастух;
От глаз его, от искреннего взгляда,
Поверишь ли, захватывает дух;
У Артемиды сманит он дриаду,
Так он красив, так обещает рот его усладу;
Чело — что восходящая луна;
Встают холмами сросшиеся брови;
И полночь Тира, что напоена
Душистым миртом и полна любови,
Цитере лучше мужа не нашла б;
Пылают щеки у него, он ловок и не слаб.
И он богат; на сочной луговине
Овец пасутся тучные стада;
И творог есть в его хозяйской скрыне,
И молоко, и масло есть всегда;
В его владенье — клеверное поле;
Он любит звонкую свирель и песни на приволье.
И все ж я не люблю его; лишь ты
Меня лишил бы девственности бледной;
Растут не в море дивные цветы,
Но ты возрос, прекрасный, всепобедный,
В Эгейском море; ты — звезда, чей свет
Над океаном, отразившим тысячи планет!
Ты был давно предвещай мне, чудесный,
Когда зацвел впервые сухостой,
Когда покрылся остов мой древесный
Цветами, словно пеною густой,
И до смешного всякий венчик мелкий
Луну напоминал мне; и когда пугались белки,
Заслыша излияния дрозда,
И цвет кукушкин окаймил дорогу,
И забродили соки, и когда
Забили вдруг любовную тревогу
На мне все жилки мшистые, и страсть,
Мой ствол неистово тряся, набунтовалась всласть.
И оленята приходили с мамой
Совать носы в просвет моих ветвей,
И черный дрозд на ветви верхней самой
Сложил гнездо для женушки своей;
Крапивник пел на прутике тончайшем,
И прогибался тонкий прут с почтением нижайшим.
Аттический пастух в моей тени
Свидание назначал своей пастушке;
Вокруг меня и Дафнис в оны дни,
Смеясь, гонялся по лесной опушке
За девушкою робкою; она,
Взглянув на юношу, была любовью пленена.
Так следуй же за мной в мое укрытье,
Где жимолость свивает балдахин,
Где мирт пафосский освятит событье;
Там, в зелени, там, в глубине глубин,
Веселый шум царит в дроздовых гнездах,
Гуденье , диких пчел лесных там наполняет воздух,
Там блещет пруд, и лилии, как флот,
Идут себе вдоль кромки побережья,
И стрекоза, отважный мореход,
Рулит Бог весть в какое зарубежье;
Свой берег, зацелованный волной,
Оставь, не бойся, все забудь —
и следуй лишь за мной
Туда, где Кипра гордая царица,
Как женщина простая, влюблена,
И где Эндимиону приоткрыться,
Прогнав туман, торопится луна,
Пойдем, — не бойся, милый мой, Диану:
Она пантерой не спешит на тайную поляну.
А если хочешь, поспешим назад,
В твой прежний мир, в кипение буруна;
И корабли, и годы пролетят
Над нами в склепе мощного Нептуна;
Мы будем утром, днем и ввечеру
Пурпурных чудищ наблюдать неловкую игру.
Ведь если здесь сейчас меня застанет
Наедине с тобою госпожа,
Жалеть меня, поверь, она не станет;
Ах, нет, копье на землю положа,
Согнет она свой лук, стрела засвищет..
Я слышу… То ее шаги… Она кого-то ищет…
Проснись! Проснись! Ужель ты не герой
В любовной битве? Милый, хоть однажды
Устрой мне пир нектарный, где порой
И боги пьют в часы любовной жажды.
Спеши! Спеши! Почти у наших ног
Лежит страна, где возведен твой голубой чертог!»
Здесь древеса раздвинулись, и вскоре
Пространство ощутило: это бог;
Седые волны отступили в море,
Залаял пес и взвыл печальный рог;
Кончиной грозной, смертью оперенной
Стрела со свистом понеслась вперед, на крик, влюбленной.
Незваной гостьи гибельный полет
Был скор, и неожиданен, и страшен;
Она в груди закончила поход
Меж маленьких бело-молочных башен;
Кровавей пашен не было и нет:
В багряной длинной борозде — жестокой смерти след.
И плакала красавица лесная,
Так рано покидая этот мир,
И плакала, невинность проклиная,
Которую не взял ее кумир;
И капли жизни юной и роскошной
Текли по телу девушки, что билась в муке тошной…
И дева умерла, не испытав
Веселья страсти; страшной этой тайны
В себе не пережив и не познав,
Считай, что были дни твои случайны;
Но если тайну ты познал, — тогда
Ты в рабство к смерти попадешь — навечно, навсегда.
А в это время там, за облаками,
В огромной колеснице золотой,
Серебряными правя голубками,
Катила Киферея; молодой
Адонис эту ночь провел с богиней;
Она неслась в пафосский край по глади ярко-синей.
И юношу увидела она
С дриадой мертвой; оглашая долы,
Рыдала ореада, как струна
Прекраснейшей сопрановой виолы,
И Киферея, жалости полна,
Спустилась к тем, кто чашу зла испил до дна, до дна…
Беда, когда, от счастья замирая,
Садовник слышит птичьи голоса,
Но губит розу, жительницу рая,
В его руках беспечная коса;
Бессмысленною жертвою распада
Цветок сгниет; беда, когда, перегоняя стадо,
Затопчут два нарцисса пастушки,
Те два нарцисса, глядя на которых,
Цветастые смиряли мотыльки
Свою гордыню в прениях и спорах,
Их чашечки затопчут, стебельки,
Что мягки так, и так нежны, и хрупки, и легки;
Еще беда, когда, устав от книжки,
Бежит к ручью с урока ученик,
И две кувшинки нравятся мальчишке,
И он их рвет, жестокий баловник,
И, тешась, их бросает на дорогу,
Где солнце, восходя в зенит, убьет их понемногу.
Воскликнула Венера: «Свершено
Ужасное ужасной Артемидой,
Иль, может быть, содеяно оно
Воительницею, под чьей эгидой —
Афинский холм, — увы! увы! увы!
Им, нелюбимым, так любить, и вот — мертвы! Мертвы!»
И юношу взяла с дриадой юной,
И в колесницу бережно внесла;
Белела шея, словно жемчуг лунный,
И только жилка синею была,
И грудь богини бурно воздымалась,
Как будто лилия в тот миг под ветром колыхалась.
И встрепенулся голубиный стан;
Навстречу утру и навстречу зорям,
Как облако, воздушный караван
Поплыл бесшумно над Эгейским морем,
И лишь внизу, во всю взывая мочь,
«Таммуз!» — молящегося глас тревожил эту ночь.
Но прилетели к мраморным ступеням,
Что в море убегают, широки,
И здесь душа наполнилась волненьем,
И задрожали губы-лепестки.
«Одною меньше девушкой отныне
В блестящей свите быть моей», — подумалось богине.
И слуги повесть эту день за днем
Резьбой изобразили прихотливой
На гробе кедровом; и скорбно в нем
Страдальцев схоронили под оливой
В земле пафосской; фавнова игра
Слышна там в полдень; соловей там свищет до утра.
Еще и пчелы утреннею ранью
К нарциссам не слетели в новый день,
Еще дроздов певучее собранье
Не распугал проснувшийся олень,
И ящерки на солнце не мелькнули,
Когда в земле, в могильной мгле влюбленные уснули.
На утре дня, едва упала мгла,
Венера попросила Прозерпину,
Чтоб ту, что Смерть влюбить в себя смогла,
Ее возлюбленному Господину
Вознаградить угодно было б;
Страсть Смогла б через Харонов брод пройти и не пропасть!
II
Был Ахерон безлунен и в печали;
Там, вдалеке от радостного дня,
Где ни ручьи, ни реки не журчали,
Где яблоко и солнце — не родня,
Где Май цветов не сеял на полянке
И где не спаривались век дрозды и коноплянки,
Там, у Летейских мутных, темных вод,
Лежал Хармид и наблюдал уныло,
Как по теченью черному несет
Оборванные звезды асфодила,
Что с берега устало он ронял;
Расплывчатый и зыбкий сон тот мир напоминал.
И в воду он гляделся, как в зерцало,
И видел свой застывший бледный лик,
И вдруг на воду чья-то тень упала,
И чья-то ручка в тот же самый миг
Руки его коснулась; губы чьи-то
Шепнули то, что для других — запретно и закрыто.
Он обернулся: то была она;
И было их на Свете только двое;
И накатила теплая волна,
И розой пламя вспыхнуло живое,
И обнял он ее внезапно, вдруг,
И трепет ощутил ее, и сердца каждый стук.
И ей открылись житницы мужские,
И воздалось невинностью ему…
Мы о любви свирелим не впервые,
Отчаянная дудочка. К чему?
На той на бесцветочной луговине
Сам Эрос хохотал до слез. К чему повторы ныне?
Поэзия отчаянная, вновь
О страсти ты свирелишь? Над Икаром
Сложи ты крылья и не славословь,
Не трогай лиру попусту и даром,
Пока ты вод кастальских не пила
Иль Сапфино перо в волне лесбосской не нашла.
Довольно и того, что у Гадеса
Впадут земные грешники в тоску
И будут собирать без интереса
Свой горький урожай по колоску,
Где страсти босоноги, но не больно
Им в поле огненном бродить, — Ах, и того довольно,
Коль эти губы встретятся, когда
Сведется мир к экстазу без границы,
Но стихнут веси, стихнут города,
Когда к ним Персефона обратится
С эбенового трона, что стоит
В стране, где пояс развязал ей муж ее — Аид.
Перевод: Е. Фельдмана
Оскар Уайльд. Хармид. 1881 г.
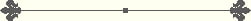
2015– © «Оскар Уайльд»