

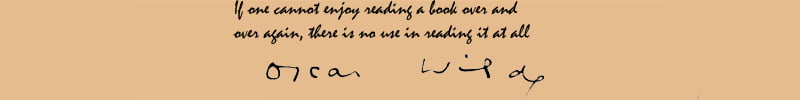
Оскар Уайльд. Ценность искусства в домашнем быту (читать онлайн)
Lecture To Art Students - Ценность искусства в домашнем быту
Статьи, лекции, эссе Оскара Уайльда
(Лекция, прочитанная студентам Лондонской Академии Художеств 30 июля 1883 г.).
В лекции, которую я имею честь сегодня прочитать вам, я отнюдь не намерен предложить вам какое-нибудь отвлеченное определение красоты. Ибо мы, работники искусства, не может принять какую-нибудь теорию красоты взамен самой красоты и, будучи далеки от желания изолировать ее формулой, взывающей к разуму, мы, наоборот, желаем воплотить ее в какой-нибудь материальной форме, дающей радость душе через посредство чувств. Мы хотим создавать, а не определять ее. Определение должно следовать за творчеством, а не творчество — приспособляться к определению.
Ничего нет опаснее для молодого художника, чем какая-нибудь концепция идеальной красоты: она неукоснительно поведет его или к мелкой красивости, или к безжизненной абстракции; но, чтобы достичь идеала, его не надо лишать безжизненности. Надо находить его в жизни и претворять его в искусстве.
И хотя с одной стороны я не имею намерения преподнести вам какую-нибудь философскую теорию искусства, — ибо сегодня я хочу заняться исследованием того, как мы можем творить искусство, а не говорить о нем, — с другой стороны я не хочу иметь дело с тем, что относится к истории английского искусства.
Начать с того, что такое выражение, как "английское" искусство, совершенно бессмысленно. Можно с таким же успехом говорить и об английской математике. Искусство — наука о красоте, а математика наука об истине: нет какой-нибудь национальной школы ни той, ни другой из них. Национальная школа — это просто-напросто провинциальная школа. Да и вообще не существует такой вещи, как школа искусства. Есть просто художники, вот и всё.
Что же касается истории искусств, она нам будет совершенно бесполезна, конечно, если вы не ищете тщеславного забвения: звания профессора искусств. Вам совершенно не к чему знать точную дату появления на свет Перуджино или место рождения Сальватора Розы; всё, что вам нужно знать об искусстве, это уметь распознать хорошую картину, когда вы ее видите, и дурную, когда вы ее видите. Что касается времени жизни художника, то все хорошие произведения всегда кажутся совершенно современными: греческая скульптура, портрет кисти Веласкеса — всегда современны, всегда нашего века. Что же касается национальности живописи, то искусство не национально, а универсально. Что касается археологии — избегайте её совсем: археология — просто наука для извинения плохого искусства; это подводная скала, на которую натыкается (и терпит крушение) не один молодой художник; это бездна, из которой ни один художник, молодой или старый, не возвращается. А если он и возвращается, то так бывает покрыт пылью веков и плесенью времени, что становится совершенно неузнаваемым, как художник, и принужден, бывает скрыть себя на весь остаток дней под шапкой профессора или в качестве простого иллюстратора древней истории. Насколько неценна археология в искусстве, вы можете судить по её популярности. Популярность — это лавровый венок, которым мир венчает плохое искусство. Всё, что популярно, негодно.
И так как я не буду беседовать с вами ни о философии прекрасного, ни об истории искусств, вы естественно спросите меня, о чем же я буду говорить? Тема моей сегодняшней лекции будет посвящена тому, что создает художника и что художник сам создает; каковы отношения художника к окружающему его миру, какое художник должен получить образование, и каковы отличительные качества хорошего произведения искусства.
Во-первых, начнем с отношений художника к окружающему его миру, т.е. к веку и стране, в которых он родился. Всякое настоящее искусство, как я уже указал, не имеет ничего общего с каким-либо определенным веком; но эта универсальность есть качество произведения искусства; условия, создающие это качество, бывают, различны, и, мне кажется, вы должны как можно полнее освоиться со своим веком, чтобы как можно полнее отрешиться от него; и помните, что, если вы истинные художники, вы никогда не будете знаменем века, а властелинами вечности; что всякое искусство покоится на каком-нибудь принципе, а чисто-временные условия никогда не бывают принципами; и что те, которые советуют вам направить ваше искусство к тому, чтобы оно явилось характерным для XIX века, советуют вам создавать такие произведения искусства, которые ваши дети, когда они у вас будут, будут считать старомодными. Но вы мне на это возразите, что век наш нехудожественный, что мы — нехудожественные нации, и что художнику в наш XIX век приходится очень много претерпевать.
О, конечно, приходится. И я меньше всех людей собираюсь это отрицать. Но не забудьте, что никогда не было ни художественного века, ни художественной нации с самого сотворения мира. Художник всегда был и всегда будет редкостным исключением. У искусства никогда не было золотого века: были только художники, создававшие произведения, которые были более золотыми, чем само золото.
Но вы мне опять возразите: а греки? Разве они не были художественной нацией?
Греки, разумеется, не были, но, может быть, вы подразумеваете афинян, жителей одного из тысячи городов?
Вы думаете, что они были народом с художественными вкусами? Возьмите их в период их наивысшего художественного развития, во второй половине V века до Христа, когда у них были величайшие поэты и величайшие художники древнего мира, когда, по мановению руки Фидия, вырос во всей красе Парфенон, когда философ беседовал о мудрости под сенью расписного портика, а трагедия в совершенстве пышности и пафоса шествовала по мрамору сцены. Были ли они тогда художественным народом? Нисколько. Что такое художественный народ, как не народ, который любит своих художников и ценит их искусство? Афиняне же не ценили ни того ни другого.
Как они обошлись с Фидием? Фидию мы обязаны величайшей эрой не только в греческом, но и во всяком искусстве — я хочу сказать, ему мы обязаны применением в искусстве живой натуры.
И что бы вы сказали, если б все английские епископы, а за ними и весь английский народ, вдруг в один прекрасный день направились из Exter Hall1 к Королевской Академии и увезли сэра Фредерика Лейтона2 в тюремной фуре в Ньюгэтскую тюрьму, по обвинению в том, что он позволил вам пользоваться живыми натурщиками и натурщицами для ваших набросков к картинам на религиозные сюжеты?
Разве вы не станете протестовать против варварства и пуританизма такой идеи? Разве вы не станете объяснять им, что наихудший способ воздать славу Богу — обесславить человека, сотворенного по образу Его, Его же руками; и что, если кто-либо желает изобразить Христа, он должен взять образцом наиболее христоподобного человека, какого он может найти, а для изображения Мадонны — наиболее чистую девушку, какую он только знает?
Разве вы не побежали бы, если бы это понадобилось, и не сожгли бы Ньюгетскую тюрьму, и не заявили бы, что подобное явление не имеет равного в истории?
Не имеет равного? Но именно так и поступили афиняне.
В зале парфенонских мраморов, в Британском музее, вы увидите на стене мраморный щит. На нем изображены две фигуры: одна — человека с полузакрытым лицом, другая — человека с богоподобными очертаниями Перикла. За то, что Фидий это создал, за то, что он ввел в барельеф, изображающий момент древнегреческой священной истории, облик великого государственного деятеля, управлявшего Афинами в то время, он был брошен в тюрьму, и там, в пошлейшей афинской кутузке, скончался величайший художник древнего мира.
И вы думаете, что это был исключительный случай? Отличительный признак филистерствующего века — это обвинение искусства в безнравственности, и это обвинение возбуждалось афинским народом против всех великих мыслителей и поэтов того времени — против Эсхила, Еврипида, Софокла. То же самое было и во Флоренции в XIII веке. Хорошими произведениями прикладного искусства были обязаны цехам, а не народу. С того момента, как цехи лишились своей власти, и народ занял положение, — красота и честность в работе исчезли.
Поэтому никогда не говорите о художественной нации; ничего, подобного никогда не было.
Но, может быть, вы мне возразите, что внешняя красота мира почти окончательно. исчезла для нас, что художник больше уже не бывает окружен той красивой обстановкой, которая в прошлые века составляла естественное наследство каждого, и что очень трудно осуществлять искусство в этом некрасивом нашем городе, где, когда вы отправляетесь на работу утром или возвращаетесь с неё вечером, вы должны проходить улицу за улицей глупейшей и нелепейшей архитектуры, какую когда-либо видел мир; архитектуры, в которой каждая прекрасная греческая форма осквернена и обезображена, где каждая прекрасная готическая форма осквернена и обезображена, где почти три четверти всех лондонских домов доведены до уровня простых квадратных ящиков самых отвратительных пропорций, таких же уродливых, как и грязных, таких же убогих, как и претенциозных: у них входная дверь всегда окрашена в неподобающий цвет, окна — неподобающих размеров; и когда,. уставши смотреть на дома, вы переносите взоры на самую улицу, вы ничего другого не видите, кроме цилиндров, людей с ходячими рекламами, ярко-красных почтовых ящиков, и каждую минуту при этом рискуете быть задавленным изумрудно-зеленым омнибусом.
Разве не трудно приходится искусству, скажете вы мне, при таких условиях? Разумеется, трудно, но искусство никогда не давалось легко; и вы сами не захотели бы, чтобы оно было легким; и кроме того стремиться делать нужно только то, что мир считает невозможным и невыполнимым.
Но вы не хотите, чтобы вам ответили просто парадоксом. Каковы отношения художника к внешнему миру, и каковы для вас результаты потери окружающей прекрасной обстановки, — вот один из самых важных вопросов современного искусства, и ни на чем Джон Рескин так не настаивает, как на том, что вырождение искусства явилось следствием вырождения прекрасного вообще; и что, когда художник не может насытить свой глаз красотой, творчество его тоже лишается красоты.
Я помню, как в одной из своих лекций, описав непривлекательную внешность большого английского города, он нарисовал нам картину того, какие были художественные обстановки, окружавшие жизнь в прежние времена.
"Вообразите себе, — говорил он словами столь совершенной и живописной изобразительности, красоту которых я лишь слабо могу передать: — вообразите себе, какие картины раскрывались при послеобеденной прогулке какому-либо рисовальщику готической пизанской школы — Нино Пизано, например, или кому-либо из его учеников?
"На обоих берегах сверкающей реки, видел он, высились ряды еще более ярко сверкавших дворцов, с арками и колоннами, и облицованные темно-красным порфиром и змеевиком; вдоль набережной, перед воротами дворцов, проезжали сонмища рыцарей с благородными лицами и благородной осанкой, ослепительными шлемами и щитами: кони и всадники составляли один сплошной лабиринт красок и сияющих огней — пурпурные, серебряные и алые бахромы переливались над крепкими ногами и звенящими доспехами, словно морские волны над скалами при закате. По обеим сторонам реки раскрывались сады, дворы и ограды монастырей; длинные ряды колонн, увенчанных виноградом; всплески фонтанов среди гранат и померанцев; и по дорожкам садов, под алой тенью гранатных деревьев медленно двигающиеся, группы красивейших женщин, которых когда-либо видела Италия — красивейших, потому что они были наиболее чистыми и глубокомысленными; обученных равно высшим наукам, как и галантным искусствам — танцу, пению, восхитительному остроумию, благородной мудрости, еще более благородной смелости наиблагороднейшей любви — одинаково умеющие ободрить, зачаровать или спасти душу мужчины. И надо всей этой сценой совершеннейшей человеческой жизни высились купол и колокольня, горевшие белым алебастром и золотом; а за куполом и колокольной — склоны мощных холмов, покрытые сединою оливковых рощ; далеко к северу, над пурпурным морем торжественных Аппенинских вершин, четкие, остро очерченные Каррарские высоты бросали к янтарному небу застывшие пламенники своих мраморных вершин: само великое море, горевшее просторами света, тянулось от их подножий к Горгонским островам; а над всем этим — вечно присутствующее близко или далеко, видимое сквозь листву виноградников или повторенное со всеми своими бегущими тучками в водах Арно, или окаймляющее темной синевой золотые пряди или горящую щеку дамы и рыцаря, — это невозмутимое священное небо, которое для всех, в те дни наивной веры, было так же бесспорно населено духами, как земля людьми; которое открывалось непосредственно своими облачными вратами и росными завесами в торжественное благоговение вечного мира; небо, в котором каждое проходящее облако было буквально ангельской колесницей, а каждый луч утра и вечера струился от Престола Господня3.
Что вы скажете об этом, как о школе для рисовальщика?
А потом взгляните на удручающий, однообразный вид любого современного города, на мрачную одежду мужчин и женщин, на бессмысленную, голую архитектуру, на бесцветную окружающую обстановку. Лишенные прекрасной нарядной жизни, не только скульптура, но и все искусства вымрут.
Что же касается религиозного чувства, которое сквозит в конце только что приведенной мною цитаты, кажется, мне не приходится о нем говорить. Религия вырастает из религиозного чувства, художество — из художественного чувства: никогда не вырастает один из другого; если у вас нет необходимого корня, вы никогда не получите необходимого цветка; и если человек видит в облаке ангельскую колесницу, то весьма возможно, что он нарисует его совсем непохожим на облако!
Что же касается общей идеи первой части этого прекрасного отрывка прозы, не совершенно ли справедливо, что художнику необходима красивая обстановка? Мне кажется, нет; я уверен, что нет. Лично мне наиболее антихудожественным явлением в нашем веке кажется не равнодушие публики к прекрасным вещам, а равнодушие художника к вещам, которые называют безобразными. Ибо для истинного художника нет ничего в своей сущности прекрасного или безобразного. С "фактами предмета" ему нечего делать, он считается только с его внешностью, а видимость — это вопрос света и тени, распределения масс, расположения общей художественной ценности.
Видимость, собственно, просто вопрос эффекта, и вам, художникам, приходится иметь дело с эффектами природы, а не с реальной сущностью предмета. И вам, художникам, надо писать предметы не такими, какие они есть, а какими они вам. кажутся, не то, что есть, а то, чего нет.
Ни один предмет не бывает настолько уродлив, чтобы при некоторых условиях света и тени, или при сопоставлении с другим предметом, не мог казаться красивым; и ни один предмет не бывает настолько красив, чтобы при некоторых условиях не казаться уродливым. Мне кажется, что в каждые сутки хоть раз то, что красиво, кажется уродливым, и то, что уродливо — красивым.
И бесцветность наибольшей части нашей английской живописи, мне кажется, происходит оттого, что большинство наших молодых художников видит только то, что можно было бы назвать "готовой красотой", а между тем вы призваны, как художники, не только копировать красоту, но и творить красоту, поджидать и подсматривать ее в природе.
Что вы сказали бы о драматурге, который изображал бы в своих пьесах исключительно добродетельных людей? Не сказали бы вы, что он отбрасывает по крайней мере добрую половину жизни? Ну, а о художнике, который изображает только красивое, я тоже сказал бы, что он отбрасывает половину жизни.
Не ждите, чтобы жизнь стала живописнее, но старайтесь видеть ее при известных условиях. Эти условия вы можете создать себе в вашей студии, так как это просто условия освещения. В природе же вы должны поджидать их, выслеживать их, выбирать их; и если вы будете ждать и выслеживать — они придут.
На Говер-стрите ночью можно увидеть очень живописный почтовый ящик; на набережной Темзы иногда можно увидеть живописных полисменов. Даже Венеция не всегда бывает живописной, точно так же и Франция.
Писать то, что видишь — хорошее правило в искусстве, но видеть то, что стоит писать — еще лучшее. Научитесь видеть жизнь при живописных условиях. Лучше жить в городе с переменной погодой, чем в городе, окруженном красивой обстановкой.
Теперь, рассмотрев, что создает художника и что создает художник, рассмотрим, что такое он сам. Среди нас живет человек, который объединяет в себе все качества благороднейшего искусства, чьи произведения — предмет радости для всех веков, кто сам властелин над всеми веками. Этот человек — м-р Уистлер…
* * *
Вы скажете, пожалуй, что современная одежда очень некрасива. Но если вы не умеете изобразить черное сукно, вы не могли бы изображать атласные камзолы. Некрасивая одежда лучше для искусства, дело же в зрении, а не в самом предмете.
Что такое картина? Во-первых, картина — это просто прекрасная раскрашенная поверхность, имеющая для вас такое же значение или духовный смысл, как дивный кусок венецианского стекла или изразец со стены Дамаска. Во-вторых, это чисто-декоративный предмет, вещь, на которую приятно смотреть.
Все археологические картины, которые заставляют вас воскликнуть: "Как любопытно!" — все сентиментальные картины, которые заставляют вас воскликнуть: "Как грустно!" — все исторические картины, которые заставляют вас воскликнуть: "Как интересно!" — все картины, которые не вызывают в вас тотчас же чувства художественного наслаждения и не заставляют вас воскликнуть: "Как прекрасно!" — плохие картины…
* * *
Мы никогда не знаем заранее, что изобразит художник. Разумеется, не знаем. Художник никогда не должен быть специалистом. Все подразделения художников на анималистов, пейзажистов, на художников, изображающих шотландский скот в английском тумане, на художников, изображающих английский скот в шотландском тумане, на художников, изображающих скаковых лошадей, на художников, изображающих бультерьеров, — просто-напросто пошлы. Если человек — художник, он может изобразить, что угодно…
* * *
Цель искусства — пробудить те глубочайшие божественные струны, что могут создавать музыку в нашей душе.
Разве я требую голой техники? Нет. До тех пор, пока остаются какие-либо следы техники, картина еще не закончена, а что такое законченность? Картина закончена тогда, когда все следы работы и методы, примененные для достижения результата, — исчезли.
Когда дело касается ремесленника — ткача, гончара, кузнеца, то на их произведениях остается след их рук. Но этого не бывает с живописцем, этого не бывает с художником.
Искусство не должно обладать каким-либо чувством, кроме собственной красоты, какой-либо техникой, кроме той, которой нельзя заметить. Надо, чтобы о картине сказали не то, что она "хорошо написана", а что она "вовсе не написана".
Какая разница между абсолютно-декоративным искусством и живописью? Декоративное искусство подчеркивает материал, которым оно пользовалось; творческое искусство уничтожает его. Вышивки показывают свои нити, как часть своей красоты; картина уничтожает, сводит к нулю собственное полотно; она его не показывает. Фарфор подчеркивает свой блеск; акварель отвергает бумагу.
Картина не имеет другого смысла, кроме собственной красоты, другой идеи, кроме собственной радости. И это первая истина искусства, которую вы никогда не должны забывать. Картина — чисто-декоративная вещь…
Примечания
1 Exeter Hall — большая, зала в Лондоне, место для различных религиозных собраний.
2 Английский художник, стоявший во главе Академии Художеств.
3 "Два пути". Дж. Рескина.
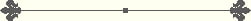
2015– © «Оскар Уайльд»