

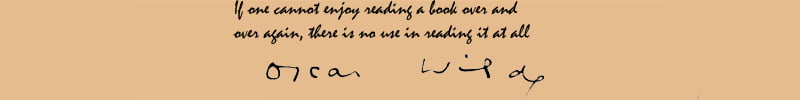
Жак де Ланглад. Оскар Уайльд, или Правда масок. Глава V. Долгий процесс
Боги непостижимы. Они не только используют наши пороки, чтобы сделать из них орудия для нашего же наказания. Они приводят нас к гибели, используя все, что есть в нас от добра, нежности, человечности, любви.
9 марта перед зданием суда на Грейт Марлборо-стрит остановилась дорогая карета, запряженная двойкой лошадей. Из нее вышли Оскар Уайльд, Перси и Бози Дуглас. Процесс, на котором известный писатель противостоял представителю высшей аристократии, до такой степени привлекал толпу, что Уайльду и его спутникам с трудом удавалось сквозь нее пробиться. Однако как только председатель Ньютон заметил Альфреда Дугласа, он приказал ему немедленно покинуть зал. Адвокатом Куинсберри выступал однокашник Уайльда по Оксфорду Эдвард Карсон. Он согласился участвовать в процессе только после того, как узнал, что частные детективы, которых нанял Куинсберри, занимались поисками свидетелей, готовых дать показания о связях Уайльда с молодыми людьми; кроме прочих в их числе оказался и портье из гостиницы «Савой», который навел детективов на след Чарли Паркера и Чарльза Брукфилда. Оскара Уайльда вызвали для ответа на вопросы адвоката Хамфриса. Он чувствовал себя так же уверенно, как в каком-нибудь лондонском салоне или зале театра, где его встречали овацией; он безупречно выглядел, хотя на этот раз в его бутоньерке не было никаких цветов. Первая же реплика Уайльда вызвала замечание судьи:
— Вы являетесь драматургом и писателем?
— Мне кажется, я достаточно известен в этой среде.
— Я прошу вас точно отвечать на поставленный вопрос.
Уайльд перешел к объяснению своих отношений с разными членами семейства Куинсберри, и именно в этот момент случилась первая серьезная заминка. Хамфрис хотел представить суду другие письма Куинсберри к сыну; однако в них упоминались имена лорда Роузбери и лорда Солсбери, и судья запретил чтение этих писем перед судом. Таким образом, адвокат Уайльда был лишен возможности раскрыть подлинный характер лорда Куинсберри по причине политической, не имевшей к существу дела никакого отношения. Наконец заседание завершилось, и судья постановил, что дело будет слушаться через три недели.
Кольцо сжималось. Насколько Уайльд был уверен в исходе процесса, учитывая незначительность обвинений, выдвинутых против него и построенных на одних только подозрениях, без доказательств содомии, настолько же маркиз лез из кожи вон, чтобы нанятые детективы раздобыли недостающие доказательства. Его подручные обнаружили заведение Тейлора и собрали показания консьержки и местных проституток, которых приводила в бешенство «нечестная конкуренция» тейлорских юношей. Им помогал Чарльз Брукфилд, который с начала января исполнял в театре роль Мейсона, слуги сэра Роберта Чилтерна в «Идеальном муже». Он возненавидел Уайльда лишь за то, что ему досталась в пьесе роль второго плана. Начиная с 4 марта он с готовностью отдал себя в распоряжение Куинсберри, помогая напасть на след многих «сообщников» Уайльда, а также раздобыть безумные письма Уайльда к Бози.
10 марта Оскар Уайльд пришел к известному адвокату сэру Эдуарду Кларку, единственному, кому было по силам успешно противостоять опаснейшему Карсону. Кларк согласился на защиту только при условии, что Уайльд поклянется, что невиновен в деяниях, в которых его обвиняют. И Уайльд поклялся.
13 марта он уехал с Бози на неделю в Монте-Карло, где беззаботно сорил деньгами в то время, как судьба уже затягивала его петлю. Вернувшись в Лондон, он остановился в отеле «Кэдогэн» и занял пятьсот фунтов на судебные расходы у Эрнеста Леверсона, только что бездумно спустив целую сотню во время своего сумасшедшего путешествия. Затем он отправился к ясновидящей Робинсон, которая предсказала ему победу. В гостинице, куда он вернулся чуть позже, его ожидало письмо адвоката, в котором перечислялись свидетели, которых намерена была пригласить на слушание противная сторона: Альфред Вуд, Эдвард Шелли, Альфонс Конвэй, Сидни Мейвор, Фред Аткинс, Морис Шваб, Чарльз Паркер, Эрнест Скарф, Уолтер Грэйнджер и мальчик-посыльный из «Савоя» Танкард… Каждого из них он приглашал в отдельный кабинет на ужин, за которым следовало более или менее продолжительное совместное пребывание в «Савое» или в «Альбермэйле». К этому добавлялись «Хамелеон», «Портрет Дориана Грея», письма к Дугласу. Фрэнк Харрис умолял его забрать жалобу, пока не поздно. Бози, тоже очень озабоченный, молчал. Бернард Шоу считал, что только ирландская гордыня не позволила ему в тот момент признать свое поражение. Уайльд ничего не слышал и никого не слушал. Он витал в облаках, словно зачарованный приближением опасности, того «иного», чего он так ждал после Алжира.
3 апреля 1895 года Джон Шолто Дуглас, маркиз Куинсберри предстал перед судом по обвинению в том, что написал и обнародовал не соответствующий действительности текст клеветнического и оскорбительного характера по отношению к г-ну Оскару Уайльду в виде адресованной ему визитной карточки. Зал суда Олд-Бейли был переполнен, и судье Джастису Коллинзу с большим трудом удалось успокоить публику. Защита в липе Эдварда Карсона заявила о невиновности маркиза, подтверждая это тем, что указанный текст был написан обоснованно и в интересах общественного блага.
Сэр Эдуард Кларк первым взял слово и напомнил суду уже известные факты. Он обратил внимание на значение нанесенного оскорбления, ведь обращено оно было против художника, достигшего огромной известности; хотя написанное не было обвинением «в самом тяжком преступлении против личности», данный текст тем не менее давал основания предполагать, что ответчик считал истца виновным в таком оскорблении. Данная ситуация усугублялась тем, что защита маркиза утверждала, что текст написан обоснованно, то есть что мистер Уайльд виновен не в том, что принимал некую позу, а в том, что на самом деле вел антиобщественный образ жизни. Доводы защиты не были оглашены, однако они содержали ряд конкретных обвинений, а также имена тех, кого мистер Уайльд якобы склонил к тому, чтобы совершить вместе с ним «тяжкое оскорбление личности».
Теперь ответчик должен был доказать справедливость своих заявлений при помощи свидетельских показаний. Адвокат Уайльда рассказал о его блестящей карьере, начиная с Тринити-колледжа и заканчивая созданием пьесы «Как важно быть серьезным», подробно остановившись на его знакомстве с Дугласом, с маркизом Куинсберри, а также упомянув о «Хамелеоне» и о «Спирит Лэмп». По поводу стихотворения «Гиацинт» он дал такие объяснения: «Слова, использованные здесь, могут показаться необычными членам суда, которые привыкли иметь дело с более прозаическими и общепринятыми оборотами речи, но мистер Уайльд, будучи поэтом, считал это письмо стихотворением в прозе, выражением истинного поэтического чувства, не имеющего ничего общего с омерзительными и отвратительными намеками, высказанными защитой в своем заключении…». Сэр Эдуард Кларк напомнил о том, что маркиз, который намеревался устроить скандал на премьере спектакля «Как важно быть серьезным», уже был однажды уличен в аналогичном проступке, когда выкрикивал оскорбительные реплики на премьере пьесы Теннисона «Предвестие мая».
Таким образом, суду предстояло решить, является ли признаком безумия факт появления на спектакле с целью учинить скандал путем оскорбительных выкриков или путем оставления букета из овощей. Получив унизительную карточку, мистер Уайльд, который, из уважения к семье Дугласов, оставлял без ответа предыдущие выходки, не мог стерпеть подобное оскорбление. В качестве оправдания защита маркиза настаивала на аморальности «Дориана Грея» и публикаций в «Хамелеоне»; однако указанные факты не могли быть вменены в вину Уайльду, поскольку «Дориан Грей» не содержит ничего, что не соответствовало бы нормам морали, а что касается «Хамелеона», то сам мистер Уайльд публично осудил это издание.
Затем адвокат ответчика вызвал истца, который сообщил свой возраст: тридцать девять лет — при этом Карсон чуть не вскочил с места, — рассказал о своих встречах с маркизом, о шантаже со стороны Вуда и Аллена, о вторжении Куинсберри в его дом на Тайт-стрит и завершил свою речь словами: «В доводах защиты нет ни слова правды». Слово вновь взял адвокат Карсон:
— Вам не тридцать девять, а сорок один год1, поскольку, согласно вашему свидетельству о рождении, которое находится у меня в руках, вы родились 16 октября 1854 года.
— Поздравляю, вы очень сильны в арифметике.
— Являетесь ли вы автором новеллы «Священник и служка»?
— Нет.
— Считаете ли вы ее безнравственной?
— Хуже того, она скверно написана.
— Вы полагаете, что ваши собственные произведения способствуют повышению нравственности?
— Я не стремлюсь быть ни нравственным, ни безнравственным, я стремлюсь только к красоте. Вдохновение исключает понятие нравственности или безнравственности.
В течение всего допроса смех и одобрительный шепот неизменно сопровождали реплики Уайльда, который чувствовал себя в своей роли очень уверенно, излагая с некоторой долей иронии Карсону и публике принципы своей философии:
— Первейшей целью жизни является реализация самого себя, а добиваться этого посредством удовольствия гораздо элегантнее, чем через несчастье. Я продолжаю утверждать, что истина прекращает быть таковой, когда в нее начинают верить более одного человека; в этом и заключается мое метафизическое определение истины — это нечто настолько личное, чего не в силах постичь два разума одновременно. И наконец, ни одно произведение искусства никогда не выражает ни малейшего мнения, так как само понятие о мнении принадлежит людям, которые не являются художниками, поскольку их точка зрения никого не интересует…
Карсон улыбался, публика перешептывалась, присяжные переглядывались. Во время допроса по поводу текста «Дориана Грея» Уайльд напрочь отрицал, что делал намеки на некое обожание со стороны лорда Генри, и добавлял под одобрение публики, «что никогда никого не обожал, кроме самого себя». Карсон осознал, что совершил ошибку, когда попытался играть на поле Уайльда; здесь он был недостаточно силен, зато противник чувствовал себя все увереннее по мере того, как поединок оборачивался в его пользу. Защитник поменял тактику и зачитал двусмысленные пассажи из «Дориана Грея», а затем перешел к знаменитым письмам, в которых Оскар Уайльд говорил о своих чувствах к Бози. Как только речь зашла о Бози, ответы Уайльда сразу стали менее уверенными, и он почувствовал явное облегчение, когда судья Коллинз объявил перерыв.
4 апреля 1895 года Карсон продолжал допрос. Он заявил, что исчерпал литературные темы и считает, что присяжные уже убеждены в том, что маркиз Куинсберри был прав, встав на защиту собственного сына. «Я буду вынужден повиноваться своему долгу и вызвать сюда одного за другим нескольких юных мальчиков для того, чтобы они рассказали свою историю. Безусловно, даже для адвоката это неприятная обязанность. Но пусть те, кто будет склонен осудить этих молодых людей за то, что они позволили мистеру Оскару Уайльду совратить, развратить себя и помыкать собой, не забывают о положении каждой из сторон и о том, что они явились скорее жертвами, чем грешниками». Ловкое предисловие, за которым последовала прямая атака: близкие отношения Уайльда и Тейлора, знакомство с Сидни Мейвором, с братьями Паркер, ужины в отдельных кабинетах с каждым из названных молодых людей, в низком происхождении которых присяжные могли легко удостовериться; побледневший от страха во время этого ужасного чередования имен Уайльд совершил первую ошибку. Карсон спросил; его о юном слуге Дугласа в Оксфорде:
— Вы когда-либо целовали его?
— Ах, боже мой! Конечно нет! Он чрезвычайно некрасив.
Можно представить себе, что было дальше, растерянность Уайльда, который увидел, как весь его мир рушится в пропасть. А Карсон неумолимо продолжал. Мистер Уайльд заявил, что находит в юности нечто восхитительное и очаровательное. Присяжные заседатели смогут по достоинству оценить абсурдность этого заявления, когда через какое-то время увидят перед своими глазами одного за другим Вуда, Паркера, Скарфа, Конвэя, все они одного возраста, при этом один из них конюх, другой грум, третий — слуга у Тейлора, содержателя дома свиданий, которого Уайльд тоже приглашал поужинать. Адвокат маркиза настаивал: Тейлор поставлял Уайльду молодых людей; присяжные выслушали трогательную историю юного Паркера, который рассказал, как был беден, как не имел работы и как стал жертвой мистера Уайльда. И со всеми этими грумами, слугами и безработными юношами мистер Уайльд ужинал в самых шикарных ресторанах, обращаясь к каждому из них по имени, а затем принимал их в номерах «Савоя». «Можно лишь удивляться, — заявил в заключение Карсон, — не тому, что об этих фактах стало известно маркизу Куинсберри, а тому, почему господина Уайльда так долго терпели в лондонских салонах». В наступившей мертвой тишине председатель объявил, что заседание переносится на следующий день. Уайльд был подавлен и ожидал самого худшего: допроса маленьких «пантер» и вынесения обвинения Тейлору.
5 апреля заседание должно было начаться с допроса свидетелей, первым из которых значился Тейлор. Сэр Эдуард Кларк, который в начале заседания покинул здание суда, вернулся и попросил разрешить ему переговорить с Карсоном. После недолгого совещания он сделал заявление: «Господин Председатель, мы пришли к убеждению, что после вчерашнего заслушивания литературных доказательств защиты и допроса свидетелей, назначенного на сегодня, вы придете к заключению, что лорд Куинсберри имел все основания использовать слова, которые были написаны на карточке. Поэтому, с целью избежать продолжительных обсуждений, длинного допроса свидетелей и изложения фактов частного характера, мы приняли решение забрать наше обращение в суд и заявить о своем согласии с признанием обвиняемого „невиновным“». Такое заявление подразумевало признание виновности Уайльда, что и подчеркнул судья Коллинз, вынося приговор маркизу «невиновен» и добавив при этом: «Я хочу сказать суду, что нами установлены две вещи: то, что истец позировал, и то, что подзащитный действовал в интересах общественного блага». Оглашение приговора было встречено аплодисментами, которые и не пытался унять председатель суда. Публика единодушно приветствовала лорда Куинсберри, который под овации покинул зал суда.
Таким образом, Уайльд был признан виновным. Он вышел из Олд Бейли под улюлюканье толпы, убежденный в том, что его карьера кончена, а жизнь разбита. В этот миг он еще не подозревал, с каким ожесточением бросится преследовать его викторианское общество, то самое, над которым он так долго властвовал. Он отправился к адвокату Хамфрису и вручил Россу чек на двести фунтов, который тот отвез в банк, чтобы обменять на наличные. Затем Уайльд заехал к себе в гостиницу, откуда написал Констанс: «Никому не разрешайте входить ко мне в спальню и в гостиную. Ни с кем, кроме Ваших друзей, не встречайтесь». Отдавая себе отчет в том, что ожидает его в будущем, он написал в газету «Ивнинг Ньюс»: «У меня не было бы никакой возможности доказать мою правоту на суде, не привлекая лорда Альфреда Дугласа в качестве свидетеля против своего отца. Лорд Альфред Дуглас стремился выступить свидетелем, но я не хотел позволить ему сделать это. Чтобы не ставить его в столь неловкое положение, я решил закончить это дело и принять на свои собственные плечи позор и бесчестье, которые могли бы стать следствием моего привлечения к суду лорда Куинсберри». Затем он отправился на Слоун-стрит в отель «Кэдогэн», где уже несколько недель жил Бози и, поджидая его, с жадностью поглощал рейнское вино, разбавленное сельтерской водой, в то время как Росс, Тернер и Харрис умоляли его немедленно покинуть Англию; все напрасно. Около пяти часов в гостиницу заявился репортер газеты «Дейли Мэйл» м-р Марлоу, который принес известие о том, что уже подписан ордер на его арест. При этом известии Оскар Уайльд сильно побледнел, но быстро взял себя в руки, приняв решение достойно встретить свою судьбу. Он нацарапал записку Бози, который поехал в палату общин повидаться с родственником, депутатом Уиндхемом, и выяснить, есть ли намерения дать этому делу дальнейший ход:. «Мой дорогой Бози, сегодня я буду ночевать в полицейском участке на Боу-стрит; мне сказали, что освобождение под залог невозможно. Попроси Перси, Джорджа Александера и Уоллера из „Хеймаркета“ похлопотать о поручительстве. Отправь также, пожалуйста, телеграмму Хамфрису с просьбой представлять мои интересы в суде… И приходи повидаться со мною».
В шесть часов слуга постучал, пропустив вперед двух полицейских: «У нас ордер на ваш арест, мистер Уайльд, по обвинению в безнравственных действиях».
Уайльд с трудом поднялся, взял в руки экземпляр «Желтой книги», тем самым сделав ее запретной и предосудительной, и спокойно направился к выходу.
Такая поспешность объяснялась действиями маркиза; его адвокаты передали досье прокурору и добились немедленного постановления об аресте Уайльда.
Перед самым появлением Уайльда инспектор Скотленд-Ярда Брокуэлл доставил в участок двух молодых людей из списка свидетелей, которые должны были предстать перед судом, и это дает основание предположить, что обоих принудили предстать перед судом для обвинения Уайльда с помощью угроз. Кстати, сразу после возвращения в гостиницу он получил предупреждение от Куинсберри: «Если наша страна позволит Вам сбежать, тем лучше для страны. Но если Вы заберете с собою моего сына, я буду преследовать Вас повсюду и убью Вас». Имя Оскара Уайльда исчезло с афиш «Сент-Джеймса» и «Хеймаркета», однако «Идеальный муж» продолжал идти до 8 апреля, а «Как важно быть серьезным» оставался в репертуаре до 8 мая.
6 апреля 1895 года Оскару Уайльду было предъявлено обвинение в покушении на нарушение 11-го раздела закона от 1885 года. Его поместили в тюрьму Холлоуэй. С самого начала правосудие продемонстрировало свою безжалостность: судья отказал в освобождении под залог, запретил передать ему сменное белье, а в тюрьме ему отвели самую худшую камеру. Имя Оскар стало оскорблением; кучеры фиакров презрительно называли так молоденьких посыльных и мальчиков-телеграфистов. Английская пресса пришла в неистовство. Поверенный Куинсберри уточнял, что обвинения, которые в окончательном виде предъявят Уайльду, будут зависеть от свидетельских показаний, которые, среди прочих, должны будут дать в суде братья Паркер, Альфред Тейлор, Шелли, которых Уайльд приглашал в отдельные кабинеты в ресторане «Кеттнерс». Не желая предвосхищать ход судебных заседаний, газеты уточняли: «Исключительно важная задача заключается в том, чтобы показать, что люди, совершающие подобного рода правонарушения, рано или поздно предстанут перед правосудием».
Начиная с 5 апреля, французская пресса, публика, сообщества интеллектуалов и светские круги, которые прежде приветствовали каждый приезд Уайльда в Париж, принялись жадно следить за развитием этого дела, которое резко высветило нравы викторианской Англии. Генри Бауэр писал: «Знаменитый гуманист Оскар Уайльд, признанный во многих столицах мира, разыгрывает сегодня комедию для своей неблагодарной родины Англии и для всей пристально следящей за ним Европы». В печати появилось краткое сообщение о причинах ссоры и характеристики противников: «Оскар Уайльд, эстет с зеленой гвоздикой, самый известный современный английский драматург, желанный гость лондонских и парижских салонов, наконец, тот самый, кому мы обязаны модой на лилии и подсолнухи; маркиз Куинсберри, взрывной, как порох, заядлый боксер, представляющий опасность как для политических противников, так и для членов собственной семьи». Очевидно, что бой вышел неравным, но этим фактом воспользовались для того, чтобы с удовольствием подчеркнуть мелочность английского правосудия и выразить восхищение тем, как Уайльд, подобно Байрону, бросил вызов всей Англии.
На следующий день после ареста волнение усилилось; возникло опасение, что Уайльду грозит пожизненное тюремное заключение. Журналисты во главе с Анри Фукье не уставали восторгаться «шумным скандалом, разразившимся в Англии», сочувствуя «доброму мистеру Оскару Уайльду», которому предстояло одному расплачиваться за всех и чья расплата должна была быть тем более суровой, что «английское общество, то самое общество, которое отравило жизнь лорду Байрону (…), является, вероятнее всего, самым развращенным во всей Европе». Можно понять, почему Франция, которой едва удалось погасить панамский скандал, замять шумиху с наградами и которая только что выслала капитана Дрейфуса на остров Дьявола, испытывала потребность высечь викторианскую Англию, кичащуюся своей респектабельностью и колониальной мощью! Пресса публиковала трактаты на тему гомосексуализма, вспомнив, что адвокат Уайльда сэр Эдуард Кларк участвовал в бракоразводном процессе леди Расселл, чей муж обвинялся в том же преступлении, что и Оскар Уайльд. Газета «Ле Голуа» так описывала атмосферу, царившую в Лондоне: «Лондон пребывает в невыразимом смятении в результате судебного разбирательства по делу об обвинении в клевете, которое предпринял известный писатель мистер Оскар Уайльд против маркиза Куинсберри», не забывая при этом напомнить о наклонностях Уайльда, аналогичных наклонностям лорда Роузбери. Скандал затронул все слои лондонского общества, начиная со знати и заканчивая содержателями публичных домов. Кроме того, как было не обратить внимание на то, насколько изменилась Англия за шестидесятилетний период правления целомудренной королевы Виктории, если маркиз мог позволить себе письменно оскорбить премьер-министра, а известный писатель — проводить время в отдельных кабинетах «Савоя» и публичных домах для гомосексуалистов.
В то время как Франция всячески изобличала низость своей ненавистной соперницы, Оскар Уайльд, сменивший апартаменты в «Савое» на мрачную тюремную камеру, написал отчаянное письмо Леверсонам: «Дорогие Сфинкс и Эрнест, я пишу Вам из тюрьмы, куда дошли до меня Ваши добрые слова; они утешили меня, хотя и вызвали, в моем одиночестве, слезы. По-настоящему-то я здесь не одинок. Рядом со мной всегда стоит некий стройный и золотоволосый ангел. Его присутствие погружает меня в тень, Он движется в мрачном сумраке, словно белый цветок. С каким грохотом все рухнуло! Зачем сивилла напророчила хороший исход? Я думал только о том, чтобы защитить его от отца; ни о чем другом и не помышлял, а теперь…». Мору Эйди и Робби, которым он написал, чтобы они поблагодарили от его имени всех, кто продолжал интересоваться его судьбой, Уайльд вновь подтвердил свою безумную страсть: «Бози — такое чудо! Он занимает все мои мысли. Я виделся с ним вчера. Тут ко мне по-своему добры, но у меня нет книг, сигарет, и я очень плохо сплю». Он попросил Робби сходить на Тайт-стрит и забрать оттуда рукопись «Святой блудницы». Робби передаст ее Аде Леверсон, которая будет хранить рукопись до 1897 года и вернет Уайльду, зато Уайльд тотчас же оставит рукопись в фиакре: «Лучше места для нее и не придумать!» Но самые глубокие чувства, которые охватили его, когда он наконец отдал себе отчет в том, что находится в тюрьме и что его ожидает суд, Оскар доверил актрисе миссис Бернард Бир: «Я леденею от ужаса. Жизнь, наконец, стала для меня такой же реальной, как сон. Я не знаю, какие еще мерзкие существа приползут ко мне, чтобы уличить меня».
Первое заседание суда началось 6 апреля. Первым свидетелем был Чарльз Паркер. Пока он давал показания, в зал привели Альфреда Тейлора, обвиняемого в соучастии, и посадили рядом с Уайльдом на скамью подсудимых. Свидетель подтвердил факты: «Савой», шампанское, цыпленок. Хозяйка дома 13 по Литтл Колледж-стрит заявила, что Тейлор снимал у нее квартиру, в которой принимал многочисленных гостей; тем не менее сама она хоть и слышала о Уайльде, никогда его там не видела. Это заявление явно произвело впечатление на присяжных. Альфред Вуд поведал о своих отношениях с Уайльдом и объяснил, что уехал в Соединенные Штаты, чтобы скрыться от завсегдатаев заведения на Литтл Колледж-стрит. Он ни слова не сказал о том, как неоднократно шантажировал обвиняемого. Заседание было объявлено закрытым в тот момент, когда начал давать показания Сидни Мейвор. Следующее заседание должно было состояться через две недели, а обвиняемому вновь было отказано в освобождении под залог, что совершенно противоречило существующей практике и ставило под угрозу полноценность подготовки защиты. Судья сэр Джон Бридж оказался столь же пристрастным, как публика и пресса, которые с удовольствием смаковали известие о предъявлении обвинения Оскару Уайльду. Вот как одна из вечерних газет описывала настрой общественного мнения в день открытия судебного разбирательства: «Лорд Куинсберри празднует свой триумф, а мистер Оскар Уайльд окончательно пропал. Теперь ему впору поменяться местами с лордом Куинсберри и самому сесть на скамью подсудимых. Создается впечатление, что он проиллюстрировал собственной жизнью красоту и подлинность своих воззрений (…) Адвокаты обвинения, судья и присяжные заседатели заслуживают благодарности публики за то, что так быстро закончили судебное разбирательство и избежали тем самым обнародования несомненно возмутительных подробностей». Речь шла о первом процессе, который завершился тем, что Уайльд забрал свое заявление. Трудно сказать, явилось ли это следствием развернувшихся событий или простым совпадением, но в апреле 1895 года большая часть представителей лондонского высшего общества внезапно решила предпочесть солнечную погоду средиземноморского побережья гибельному климату Лондона. Известен даже случай, когда один знаменитый актер просто съездил из Лондона в Париж — с единственной целью не отстать от других.
Нет ничего удивительного в том, что чрезвычайная суровость судьи привела к мгновенному истощению средств Уайльда, усилив тем самым нападки кредиторов. Фрэнк Харрис, навестивший его в тюрьме Холлоуэй, нашел Уайльда убитым и пребывающим в смертельной тревоге по поводу дальнейшего развития событий. Вместе с тем его несколько успокаивало понимание, выказываемое директором тюрьмы, который разрешал ему писать бесчисленные письма, а также доброжелательность охранников, проявлявших гораздо больше сочувствия, чем судьи или журналисты, которым только дай растоптать знаменитого писателя, любимца салонов, внезапно превратившегося в растлителя молодежи, осужденного еще до суда на основании текстов, которых он не писал, на основании произведений искусства, заключавших в себе определенную эстетику, которую сочли аморальной те самые филистеры, которые встречали аплодисментами постановки «Идеального мужа» и «Как важно быть серьезным».
Лондонский скандал привел к самым неожиданным последствиям в Париже. Жюль Юре выступил 13 апреля на страницах газеты «Фигаро литтерэр»: «Со всех сторон нас спрашивают, с кем же встречался мистер Оскар Уайльд, когда приезжал в Париж?» Далее он очень тенденциозно дал понять, что может предоставить информацию только о литературных знакомствах Уайльда, и среди его самых близких друзей назвал Жана Лоррэна, Катюля Мендеса, Марселя Швоба… и «других утонченных писателей». Катюль Мендес потребовал опровержения, на что Жюль Юре ответил 18 апреля в «Эко де Пари»: «В моей скромной рубрике субботних писем я, кажется, говорил только о литературных отношениях, которые установились между м-ром Оскаром Уайльдом и Вами. Если же Вам нравится воспринимать их в более широком смысле, то я не стану опровергать общепринятое мнение, обоснованность которого известна Вам гораздо более, чем мне». Дуэль стала неизбежной. Она состоялась 19 апреля, и Катюль Мендес был на ней ранен.
В тот же самый день Уайльду предстояла другая дуэль. В ожидании ее он написал Шерарду, поблагодарив его за сочувственные приветы от Сары Бернар, Гонкура, Луиса, Мореаса… и попросил предложить Саре Бернар выкупить у него за четыреста фунтов (десять тысяч французских франков) права на «Саломею». Шерард дважды предложил это Саре Бернар, и оба раза она отвечала вежливым отказом. «Что до меня, то я болен — страдаю апатией. Мало-помалу из меня уходит жизнь. И ничто, кроме ежедневных визитов Альфреда Дугласа, не возвращает меня к жизни, но даже его я вижу в унизительных и трагических обстоятельствах (…) На Сару, наверное, надежды нет, но твоя рыцарская дружба дороже всех денег на свете». Оскар продолжал верить в дружбу Леверсонов, которые делали все возможное, чтобы добиться его освобождения под залог, и вместе с тем приходил в растерянность от действий собственного брата, который писал ему чудовищные письма: «Мой бедный брат пишет мне, что защищает меня перед всем Лондоном; мой бедный, дорогой брат, он способен скомпрометировать даже паровую машину».
19 апреля 1895 года на заседании суда председательствовал Джон Бридж. Один за другим давали показания свидетели, суду были представлены копии счетов Уайльда и Тейлора. Затем было оглашено ужасное обвинительное заключение против Оскара Уайльда и его сообщника Тейлора. По завершении этой процедуры Уайльд произнес изменившимся до неузнаваемости голосом, что на данный момент у него нет никаких заявлений. Адвокат Тейлора м-р Ньютон потребовал, чтобы суд тщательно изучил личности свидетелей; в его требовании было отказано, так же как и в очередной просьбе адвоката Уайльда об освобождении под залог. 24 апреля 1895 года судебные исполнители заставили открыть двери дома 16 по Тайт-стрит. По настоянию кредиторов, которые знали, что Уайльд остался без средств, суд вынес постановление об аресте его имущества. Арест имущества превратился в грабеж: портрет Сары Бернар кисти Бастьен-Лепажа, полотна Уистлера, портрет Пеннингтона — к счастью, спасенный Леверсоном — оригинальные издания с авторскими посвящениями, фарфоровая посуда, мебель, — за все едва удалось выручить четыреста фунтов! Дуглас даже не приехал на торги, чтобы попытаться хоть что-то спасти.
Заседание возобновилось 26 апреля под председательством судьи Чарльза; зал был набит до отказа. Уайльда защищали м-р Хамфрис и сэр Эдуард Кларк. Обвинительное заключение содержало перечень, включавший двадцать пять правонарушений плюс преступное сообщничество с Тейлором. Обвиняемые не признавали себя виновными, а их защита строила свою тактику на отводе свидетелей обвинения по причине их общеизвестной сомнительной нравственности, не говоря уж о пособничестве полиции. По иронии судьбы — в то время, как Уайльд уже в течение более чем двух недель подвергался остракизму со стороны общественного мнения и прессы, обвинение обратилось к присяжным с призывом «изгнать из своих мыслей все, что они могли ранее услышать или прочесть по данному делу, и подойти к вынесению вердикта с мыслями, исполненными чувства справедливости и непредвзятости». С тем же успехом их можно было просить оставаться глухими и слепыми, как об этом смело написал Бози в письме, опубликованном в одной из вечерних газет: «Я утверждаю, что газеты вынесли приговор Оскару Уайльду еще до того, как суд присяжных огласил свое решение, что его дело было изначально бесповоротно проиграно в глазах публики, которая выделила из своей среды присяжных заседателей для участия в этом судилище, что он был практически брошен на растерзание трусливой и злобной толпы». Затем мистер Гилл вновь взял слово и уточнил, что прокуратура сочла необходимым вмешаться, потому что установленные факты касаются совсем молодых юношей, которых Уайльду поставлял Тейлор, содействуя тем самым совершению «чрезвычайно непристойных» действий.
В зал вновь вызвали свидетелей. Чарльз Паркер признал, что шантажировал Уайльда и получил за это от Вуда и Аллена тридцать фунтов. Уильям Паркер заявил, что лишь однажды встречался с Уайльдом в ресторане. Все свидетели, посещавшие Литтл Колледж-стрит, утверждали, что никогда не встречались там с Уайльдом. Заседание вновь было перенесено на другой день; на лицах присяжных можно было прочесть озадаченность: они видели, как обвинение рушилось прямо на глазах; разочарованная публика бесшумно покидала зал суда.
На следующий день вопросы Альфреду Вуду задавал сэр Эдуард Кларк. Вуд подтвердил, что получил от Уайльда тридцать фунтов для того, чтобы уехать в Америку, и признал, что шантажировал другого «клиента», разделив с Алленом полученные от него триста фунтов. Затем наступил черед Фреда Аткинса, который рассказал, что ездил с Уайльдом в Париж в качестве личного секретаря, но что они не совершали никаких непристойных действий. Эдуард Шелли, единственный заслуживающий уважения свидетель, подтвердил, что познакомился с Уайльдом у издателя Джона Лэйна и только ужинал с ним в «Альбермэйле». И наконец, Сидни Мейвор изменил свои предыдущие показания, заявив, что они с Уайльдом никогда не совершали никаких непристойных действий. Надо признать, что за несколько дней до этого заседания Мейвор встречался с Дугласом, который попросил его изменить показания под предлогом того, что он, как и другие свидетели, давал их под угрозой полиции: «Как ты можешь свидетельствовать против Оскара?» Мейвор испуганно оглянулся по сторонам и прошептал: «Но что же я могу сделать? Я не осмелюсь отказаться теперь от моих показаний после того, как полиция вырвала их у меня…», — так написал потом Бози в своих мемуарах. И все же Мейвор, изменив показания, заявил, что не имел с Уайльдом ничего, кроме дружеских отношений.
30 апреля прокурор снял обвинение в преступном сообщничестве Тейлора и Уайльда, а сэр Эдуард Кларк настаивал на немедленном вынесении постановления о невиновности последнего по этому пункту обвинения. Затем он обрушился на прессу за то, что своим отношением к процессу она способна спровоцировать вынесение предвзятого решения суда и нанести вред интересам его клиента. Он настаивал на снятии обвинения в сговоре и поселил сомнения в умах присяжных заседателей, которые своими ушами слышали, как Шелли, Мейвор, Уильям Паркер утверждали, что не совершали никаких непристойных действий, и которые поняли, что остальные свидетели являются шантажистами, так что их свидетельские показания сами по себе более чем подозрительны. И наконец, адвокат потребовал вынесения оправдательного приговора для «одного из наших самых знаменитых литературных деятелей». Он обернулся к своему клиенту с победным видом, как бы говоря: никаких доказательств, гнусная кампания в прессе, политические последствия, угроза возникновения необходимости заминать множество скандалов, перемена настроения публики — следует ожидать оправдания.
Накануне оглашения приговора Оскар Уайльд уверял Бози в своей вечной любви, которая одна помогала ему противостой ять ужасам тюремного заключения и неминуемого бесчестья. Он умолял его покинуть Англию и уехать в Италию, чтобы спастись от подобной судьбы. По совету адвокатов, которые считали, что его присутствие может оказаться компрометирующим, Бози к этому времени действительно уехал. «Я пишу тебе письмо, испытывая страшные страдания; этот бесконечный день, проведенный в суде, оставил меня совершенно без сил». Это письмо вызывает тем более острую жалость, что написано в тюрьме Холлоуэй, где Уайльд находился уже две недели, думая только о том, чтобы спасти человека, который толкнул его на этот безумный процесс.
Неожиданно доселе безучастный к этой трагедии Париж начал над ней потешаться. Появились водевили, высмеивающие известный всем персонаж, и публика хохотала над постановками, вроде «Закат Оскара» или «Оскар, или Опасности свиданий тет-а-тет с эстетом», которые шли в мюзик-холлах на бульварах. Один лишь Анри Боэр оставался верен автору «Саломеи» и возмущался клеветой, которая обрушилась на голову того, кому всего несколько месяцев назад курили фимиам все парижские литературные салоны и газеты. Затем он перешел к теме гомосексуализма в Англии — которого, по его мнению, не было во Франции! — и так объяснил причины его возникновения: «В стыдливом Альбионе каждая незаконная связь считается пороком, а в течение последних пятнадцати лет двое самых уважаемых политических деятелей, сэр Чарльз Дилк и Парнелл, были удалены с политической арены по обвинению в адюльтере (…) Откровенно говоря, лично я предпочитаю компанию содержательного и умного собеседника обществу глупца, будь он хоть самым добродетельным в мире».
Шерард предпринял тщетные попытки заручиться рядом подписей, в том числе подписью Эдмона де Гонкура под петицией к королеве Виктории в защиту несчастного друга. В семействе Доде веселились; Леон, считавший себя литератором, смешил окружающих шуткой, в которой грубость соперничала с глупостью: «Ах, этот! Наверное, его мать, еще глядя на свое дитя в люльке, подумывала: Уж этот-то сумеет перевернуться!» Однако забавляясь, он как будто забывал о том, что в Лондоне произведениям Уайльда устроили аутодафе, что его фотографии, выставленные в витринах книжных лавок, рвали на части, а его мебель разбазаривали за гроши.
Правда, французская пресса не оставила без внимания политическую сторону процесса, отмечая, что уже начато расследование по делу лорда Роузбери, выдано два ордера на арест известных деятелей, оказавшихся замешанными в этом скандале, и что в действительности Оскар Уайльд оказался в центре заговора гомосексуалистов, который разворошил маркиз Куинсберри, кстати, сам ведущий распутный образ жизни, впрочем, как и все его сыновья, младшего из которых обвиняли в помрачении рассудка, поскольку он хотел жениться на Лоретте Аддис, официантке из бара! Постепенно сарказм уступал место жалости, особенно когда стало известно, как осунувшегося и изнуренного Уайльда мучили скабрезными деталями к неописуемому удовлетворению публики и маркиза, не пропускавшего ни одного заседания.
В последний раз суд собрался 1 мая 1895 года. Председатель подвел итог состоявшимся слушаниям. Он подтвердил снятие обвинения в преступном сообщничестве и зашел настолько далеко, что обратил внимание присяжных, что свидетели обвинения «сами оказались не только сообщниками (…), но (…) и профессиональными шантажистами». Замешательство присяжных стало тем более очевидным, что Фред Аткинс был уличен в клятвопреступлении и лжесвидетельстве, и судья недвусмысленно указал на необходимость проверки показаний сообщников, а также на то, что присяжным следует учитывать, что личности всех этих молодых людей более чем сомнительны. Наконец в заключение судья, речь которого была дословно процитирована в газете «Таймс», попросил присяжных не принимать во внимание при вынесении решения произведения и письма Уайльда, которые сам автор с готовностью передал суду. В 13 часов 35 минут поколебленные в своей уверенности присяжные удалились для совещания. Они вернулись в зал суда только в 17 часов 15 минут и вынуждены были констатировать, что их мнения по основному корпусу обвинений разделились; по обвинению в заговоре присяжные вынесли вердикт «невиновен».
Куинсберри пришел в бешенство и с угрозами покинул здание суда. Оскар Уайльд, похоже, уже не отдавал себе отчет в том, что дело идет к оправдательному приговору. Он вернулся в камеру. Его адвокат подал еще одну просьбу об освобождении под залог, и ему вновь отказали. Наконец, 7 мая было получено разрешение на освобождение под залог в размере пяти тысяч фунтов, которые внесли лорд Дуглас Хоуик, чем вызвал непередаваемый гнев маркиза, и преподобный Стюарт Хедлэм, восхищенный мужеством Уайльда во время процесса и возмущенный бесстыдной кампанией в прессе. Однако пристрастность толпы достигла таких пределов, что этот великодушный поступок стоил преподобному угроз быть забросанным камнями со стороны банды одержимых молодчиков, собравшихся перед его домом в Блумсбери.
Сразу же после освобождения из-под стражи Уайльд, преследуемый боксерами Куинсберри, тщетно попытался найти гостиницу, чтобы переночевать, и получил отказ у нескольких владельцев гостиниц, которые сочли его нежелательным постояльцем; он вынужден попросить приюта у своего брата, но в конце концов нашел прибежище у Леверсонов в доме 2 по Кортфилд-гарденз, где к нему вернулся вкус к жизни. На другой день Фрэнк Харрис повез его обедать. Уайльд опасался быть узнанным в привычных ему ресторанах и предпочел более отдаленное от центра города заведение на Грейт Портланд-стрит. Здесь он признался Фрэнку Харрису в том, что свидетельство прислуги из «Савоя» о том, что его якобы видели лежащим в постели вместе с молодым человеком, не имеет к нему никакого отношения: «Свидетельство горничной ошибочно. Они ошиблись, Фрэнк. Тогда в „Савое“ был вовсе не я. Это был Бози Дуглас. Я никогда бы не осмелился». Ошеломленный Харрис умолял его сообщить об этом адвокату, так как эти сведения могли полностью разрушить обвинение и переложить вину на Бози Дугласа. Но Уайльд в очередной раз отказался скомпрометировать Бози и, несмотря на настоятельные уговоры друзей и Констанс, отверг идею покинуть Англию, прежде чем возобновится его судебный процесс. Он знал, что Бози находился в Париже; он получил от него письмо, написанное в «Отель де дё Монд», расположенном на авеню Опера, где Дуглас жил из милости владельца гостиницы, причем делил свой номер с Чарльзом Хики!
А процесс тем временем продолжался, и на этот раз главным обвинителем должен был выступить сэр Френсис Локвуд. Даже Карсон, возмущенный настойчивостью правосудия, которое, несмотря на крайнюю сдержанность присяжных, стремилось любой ценой добиться вынесения максимально строгого приговора, счел своим долгом вмешаться. Он обратился к прокурору Локвуду:
— Неужели вы не можете отпустить его? Он и так настрадался.
— Я бы рад, но мы не в силах этого сделать, поскольку как в Англии, так и за границей немедленно скажут, что мы были вынуждены отказаться от дальнейшего разбирательства по этому делу из-за имен тех лиц, которых обвиняет в своих письмах Куинсберри.
При этом он умолчал о том, что поставщик Тейлора Морис Шваб приходился ему сводным племянником.
Тем временем Оскар, словно забыв об ожидающей его участи, продолжал из своей комнаты в доме Леверсонов кричать о любви к Бози и всячески превозносить его, делая особое ударение на чистоте их взаимной страсти, помогающей ему переживать те ужасные мгновения, которые выпали теперь на его долю. Во время этого антракта он не прекращал засыпать его письмами, сравнивая со всей земною красотой, и петь гимны их вечной и бесцельной любви. Бози — и нежный цветок, и луч солнца, и прелестнейший из всех мальчиков. К счастью, ни одно из этих многочисленных писем, написанных с конца апреля и до вынесения приговора, не попало в чьи-либо посторонние руки. Можно представить, какой разразился бы скандал, если бы в зале суда зачитали отрывки, в которых Уайльд доходил почти до безумия: «Сейчас я думаю о тебе, как о мальчике с золотыми волосами и сердцем Христа в груди (…) Моя прелестная роза, моя лилейная лилия (…) Ты будешь со мною в моем одиночестве (…) Для меня ты весь, от шелковистых волос до изящных ступней, — воплощенное совершенство…»
Процесс возобновился 21 мая, когда на сцене театра «Сент-Джеймс» шел «Триумф обывателей». Альфреду Паркеру было предъявлено обвинение в «грубой непристойности» и сводничестве. Вместе с тем присяжные признали его «невиновным» по обвинению в поставке партнеров для Уайльда. Затем было объявлено, что суд не располагает доказательствами непристойных действий, совершенных Уайльдом и Ч. Паркером. Адвокат Уайльда немедленно констатировал, что это уже второй случай, когда присяжные разошлись во мнениях по вопросу о виновности его клиента. Но даже это не помешало тому, что 22 мая Оскар Уайльд вновь предстал перед уголовным судом и вновь — вопреки всякой логике — был обвинен в совершении непристойных действий с Вудом, Шелли, Паркером… тогда как за все время предыдущего разбирательства суду не удалось получить ни единого доказательства. Тем не менее на этом заседании Альфреду Тейлору был вынесен обвинительный приговор; вся пресса сделала вывод о виновности Уайльда, в то время как его процесс еще даже не начался. Сразу после оглашения приговора Тейлору Куинсберри, который не простил своему сыну Дугласу участие в уплате залога, написал его матери: «Должен поздравить самого себя, если уж не с появлением Перси, то с вердиктом присяжных. Перси похож на свежевырытый труп. Опасаюсь безумия поцелуев. Тейлор виновен. Завтра наступит очередь Уайльда».
Во время заседания 22 мая свидетельские показания Шелли не позволили доказать обвинение в содомии; показания же Вуда, напротив, подтвердили факт шантажа, в котором он участвовал вместе с Алленом и Паркером.
Во Франции, где никто не сомневался в том, что окончательный приговор будет оправдательным, вовсю комментировали перипетии этого бесконечного процесса, на котором лично присутствовал Альфонс Доде, смешавшись с толпой, до отказа заполнившей зал суда, подобно тому, как раньше она заполняла зрительные залы театров, где шли пьесы обвиняемого. «Громкий процесс Оскара Уайльда, — писал Е. Лепеллетье, — еще не закончен. Необходимо, чтобы обвиняемый сидел в тюрьме и дожидался, пока присяжные придут к единогласному решению. Целомудренная Англия в своем стремлении доказать его чудовищность, равно как и его исключительность, — забывая при этом своих телеграфистов, а также множество аристократических имен, которые на процессе были обойдены молчанием, — так неистово набросилась на этого эстета, что рискует в конце концов вызвать нашу к нему снисходительность». Неожиданно на суде случился эпизод, который привел к последнему вдохновенному публичному выступлению Оскара Уайльда. Локвуд, невзирая на предыдущие замечания судьи о том, что для принятия решения не следует принимать во внимание ссылки на литературные произведения, начал допрос обвиняемого по стихотворению «Две Любви», опубликованному Дугласом в конце 1892 года, зачитав последние строки:
…Я — истинная Любовь, я наполняю
Сердца юношей и девушек взаимной страстью.
На что другая Любовь во вздохом отвечает: Да свершится
воля твоя. Я — Любовь, не смеющая назвать себя вслух.
Оживившись при этом неожиданном напоминании о Бози, Уайльд, сбросив оцепенение, поднялся и победно ответил: «Любовь, не смеющая назвать себя вслух, — речь идет, разумеется, о нашем веке, — это глубокое чувство мужчины, старшего годами, к младшему, чувство Давида к Ионафану, чувство, составляющее основу философии Платона, заключенное в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это глубокое духовное чувство, столь же чистое, сколь совершенное. Оно порождает великие произведения искусства, такие, как творения Микеланджело и Шекспира; и эти два мои письма — произведения искусства, до такой степени непонятые в наше время, что вот я стою теперь перед судом. Это прекрасное чувство, чувство возвышенное, благороднейшее. Это чувство интеллектуальное, и возникает оно тогда, когда старший наделен интеллектом, а младшему еще присуща радость и лучезарная надежда жизни. Мир этого не понимает, мир бесчестит и пригвождает к позорному столбу все, что с этим связано».
Умиротворенный, он вновь опустился на скамью. С этого момента поведение Уайльда изменилось, как если бы выступление позволило ему осознать всю глубину роли покаянной жертвы, которую ему осталось сыграть. На какое-то мгновение публика, словно охваченная магией слова, безмолвно замерла, затем раздались аплодисменты. Судье с трудом удалось восстановить тишину, и в конце концов он прервал заседание.
23 мая судья сделал заявление о том, что не видит ничего, что не соответствовало бы достойным отношениям между Шелли и Уайльдом. Таким образом, к этому моменту, после полуторамесячного разбирательства, в ходе которого предыдущий состав присяжных не смог прийти к единодушному решению, подсудимый был оправдан по обвинению в преступном сообщничестве с Тейлором, оправдан по единственному, остававшемуся против него обвинению — связь с Шелли, — и, кроме того, его адвокат доказал, что все свидетели обвинения, выступавшие в суде, часть из которых отказалась от предыдущих показаний, являются известными шантажистами. Таков был смысл заключительной речи сэра Эдуарда Кларка, которую он произнес 24 мая, завершив ее проникновенным призывом оправдать «достойного литератора и блестящего ирландца, способного еще более обогатить нашу литературу и театральное искусство». Публика встретила речь защитника аплодисментами. Но происшествие, случившееся на следующий день, повлекло за собой окончательное поражение Уайльда.
Глава присяжных попросил слова:
— Разве не был отдан приказ об аресте лорда Альфреда Дугласа по обвинению в интимных отношениях с мистером Уайльдом?
— Не думаю, мне об этом ничего не известно. Чтобы был отдан приказ об аресте, нужны доказательства совершения наказуемых действий. Писем, говорящих об отношениях такого рода, недостаточно.
— Но если из этих писем можно сделать вывод о какой-либо вине, — настаивал глава присяжных, — ее в равной мере должен разделить лорд Альфред Дуглас.
Этот вывод напрашивался сам собой. Судья почувствовал опасность такого поворота, который мог повлечь за собой вызов в суд Бози и оглашение текста писем, содержание которых окажется компрометирующим для немалого числа высокопоставленных особ. Он заявил, что это к делу не относится и что присяжным остается вынести вердикт о виновности подсудимого. В этот момент прокурор Локвуд, который, со своей стороны, опасался признаний, которые мог сделать Бози о своих отношениях с его племянником Швабом, поспешно попросил слова и произнес ужасную обвинительную речь, в которой обвинил Уайльда в связях со сбродом, которому платил Тейлор, затем вернулся к эпизоду, связанному с гостиницей «Савой» и заявлениям дежурных по этажу, и заклеймил подсудимого за скандальное поведение в ресторанах и в доме у Тейлора. В течение всего этого времени Уайльд сидел как зачарованный, каковым в действительности и был, в преддверии невероятной судьбы, выставленной на всеобщее обозрение и ставшей с этого момента для него очевидной. Позже в «De Profundis» он написал: «Вспоминаю, как, сидя на скамье подсудимых во время последнего заседания суда, я слушал ужасные обвинения, которые бросал мне Локвуд — в этом было нечто тацитовское, это было похоже на строки из Данте, на обличительную речь Савонаролы против папства в Риме, — и вдруг мне пришло в голову: как было бы прекрасно, если бы я сам говорил это о себе!»
В половине четвертого присяжные удались на совещание и вернулись через два часа, чтобы задать судье один вопрос, затем вновь на несколько минут ушли и наконец огласили вердикт: Оскар Уайльд признан виновным по всем пунктам обвинения, за исключением того, который касается его отношений с Эдуардом Шелли. Часть публики встретила это решение криками: «Как вам не стыдно!», однако эти отдельные голоса быстро утонули в шумных восклицаниях сторонников Куинсберри. Председатель суда взял слово: «Никогда раньше мне не доводилось быть судьей на столь отвратительном деле. Мне трудно подавить чувства, которые пробуждаются в душе каждого уважающего себя человека перед лицом фактов, обнаруженных в ходе этих двух ужасных процессов. В этих условиях все ждут от меня самого сурового приговора, допускаемого нашим правосудием. И приговор этот, по моему мнению, будет слишком мягким». Приговор гласил: два года исправительных работ. Охранники вынуждены были подхватить Уайльда, который чуть не упал в обморок; он покинул скамью подсудимых под улюлюканье толпы; на улице ликовали проститутки, давшие полиции показания о темных делах, творившихся в доме 13 по Литтл Колледж-стрит. С интервалом всего в несколько месяцев правосудие осудило, не имея доказательств, во имя некой высокой идеи, капитана Альфреда Дрейфуса и писателя Оскара Уайльда. На следующий день французские газеты сообщили о вынесении обвинительного приговора, а несколько дней спустя опубликовали фотографии острова Дьявола и «хижины Дрейфуса». Газетчики не забывали подчеркнуть, что этот процесс представлялся логическим завершением судебных разбирательств, прошедших в Англии одно за другим в течение всего XIX века: дело епископа Глогера, маркиза Лондондерри, лорда Артура Сомерсета… Лондон — Вавилон XIX века?
Развязка процесса не могла оставить безучастным Андре Жида. Начиная с 17 мая он просил свою мать посылать ему все вырезки из газет, имевшие отношение к этому делу: он даже отказался от плана похищения юного Атмана и сделал несколько осторожных шагов к своей кузине Мадлен, которая писала ему: «Ты слышал о приговоре, который вынесли этим двум англичанам? Я посылаю тебе статью из газеты на эту тему. Если детали соответствуют действительности, то наказание в виде исправительных работ было бы уместным добавить к ужасам „Мертвого дома“2. Не правда ли, это ужасно?» Жид попытался навести справки о Дугласе… и 8 октября 1895 года женился на Мадлен.
Примечания
1 Так в тексте. (Прим. пер.).
2 Речь идет о романе Достоевского «Записки из мертвого дома», где автор описывает четыре года, проведенных на каторжных работах в Сибири с 1850 по 1854 год.
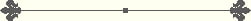
2015– © «Оскар Уайльд»