

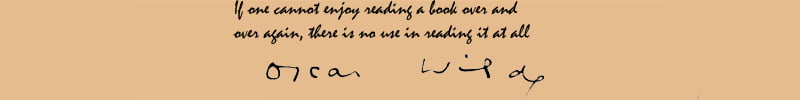
Жак де Ланглад. Оскар Уайльд, или Правда масок. Глава IV. Встреча с Дорианом Греем
У меня возникло странное ощущение, будто мне навстречу шла моя судьба, неся изысканные радости и изысканную боль.
Январь 1892 года. Оскар Уайльд приехал в Лондон, привезя с собой отредактированную корректуру «Саломеи». Любовь к театру зародилась у него еще во времена учебы в Оксфорде, когда он был очень дружен с театральными актрисами и актерами. И теперь ему казалось, что «театральное искусство подразумевает публичное признание, непосредственную и немедленную похвалу, которая более сродни явному обожанию и аплодисментам, получаемым во время беседы, чем безмолвному одобрению читателя». Он только что закончил работу над своей четвертой пьесой — «Веер леди Уиндермир». Джордж Александер1 узнал об этом и немедленно загорелся желанием поставить у себя в театре пьесу, написанную автором «Дориана Грея», любимца лондонских салонов, героя литературных кругов Парижа, которому только что посвятила свою первую полосу парижская «Голуа». Однажды после полудня он заявился в дом 16 по Тайт-стрит. Уайльд принял его в своем рабочем кабинете на первом этаже.
— Когда же я увижу эту пьесу?
— Дорогой Алек, — ответил Уайльд, — вы можете увидеть пьесу, когда пожелаете. Вам достаточно пойти в театр, где она идет, и я уверен, что вам достанутся лучшие места.
— Вы прекрасно знаете, о какой пьесе я говорю.
— Откуда же мне знать, если вы говорите загадками?
— Речь идет о пьесе, которую вы сейчас пишете для меня.
— Ах, это! Мой дорогой Алек, она еще не написана, так что увидеть ее невозможно!
— Тогда я хочу спросить, начали ли вы ее писать?
— Если вы о пере и чернилах, то нет. Но все уже написано у меня в голове, и я думаю, что следовало бы еще ненадолго оставить ее там же.
— Но разве вам не хочется заработать?
— Я предпочел бы, чтобы деньги зарабатывали меня. Ах! Я совсем забыл, я, кажется, должен вам сто фунтов.
— О, пусть вас это не волнует!
— А я об этом и не волнуюсь.
Тем не менее спустя несколько дней Уайльд послал Джорджу Александеру свою рукопись. Тот тотчас же предложил Уайльду тысячу фунтов за права на ее постановку. Однако, несмотря на серьезные денежные затруднения, Уайльд отказался от щедрого предложения и попросил внести в контракт хорошие процентные отчисления. Пьесу немедленно начали репетировать в театре «Сент-Джеймс»2 с Джорджем Александером в роли лорда Уиндермира, Мэрион Терри в роли миссис Эрлин и очаровательной Лили Хэнбери в роли леди Уиндермир.
Накануне премьеры «Дейли телеграф» поместила ответ Уайльда на статью, в которой ему, не без злого умысла, ставили в вину то, что он как-то назвал сцену «рамкой, заполненной марионетками». После всех его критических высказываний на репетициях и непосредственно перед премьерой такая статья могла быть плохо воспринята актерами. Поэтому Уайльд уточнил, что имел в виду личность актера, которая порой должна уступить место персонажу, но ему и в голову не приходило сравнивать актера с марионеткой, и тут же, не в силах удержаться, выразил свое восхищение куклами: «У марионеток масса преимуществ. Они никогда не спорят. У них напрочь отсутствует какой-либо изначальный взгляд на искусство. Недавно в Париже я побывал на представлении шекспировской „Бури“ в театре кукол в постановке г-на Мориса Бушора. Миранда была именно Мирандой, поскольку такой ее создал художник; и Ариэль был самым настоящим Ариэлем, так как был сделан таковым. Жесты их были достаточны, а слова, которые, казалось, вылетают из их маленьких ротиков, произносили истинные поэты с чудесными голосами. Это был восхитительный спектакль, и я до сих пор с удовольствием вспоминаю о нем, несмотря на то, что Миранда не обратила никакого внимания на цветы, которые я послал ей после того, как упал занавес… И тем не менее для постановки современных пьес лучше иметь дело с живыми актерами, поскольку реализм в них играет первостепенную роль. В данном случае мы лишены, причем лишены совершенно справедливо, несказанного обаяния нереальности».
В субботу 20 февраля 1892 года зрительный зал заполнился элегантной толпой завсегдатаев театральных премьер. Возбуждение зрителей достигло апогея: известность автора, талант актера и красота исполнительницы главной женской роли слились воедино, так что спектакль стал главным событием сезона. Оскар Уайльд пригласил на премьеру Ричарда Ле Галльенна с супругой, Джона Грея, Андре Раффаловича, Пьера Луиса; рядом с ним он поместил человека, которого считал несколько надоедливым: Эдуарда Шелли. Этот сотрудник издательства «Элкин Мэтьюз и Джон Лэйн» не так давно познакомился с Уайльдом и немедленно присоединился к когорте его юных поклонников. Зрительный зал был полон. В одной из лож сидели Оскар и Констанс; рядом с ними расположился молодой человек, столь стройный и прекрасный, что Уайльд по сравнению с ним казался тучным и обрюзгшим от излишеств, которые и определили его дальнейшую судьбу.
Погас свет, поднялся занавес, открывая рабочий кабинет лорда Уиндермира, в котором, спиной к террасе, выходящей в сад, стояла леди Уиндермир. Все актеры были одеты в вечерние платья. После первых же реплик в зале послышался смех. По мере того как раскручивалась интрига, простая, но превосходно разыгранная, зрители с трудом сдерживали аплодисменты, которыми наконец, на последней реплике актеров, зал буквально взорвался. Публика желала удостовериться, что литературный талант вполне соответствовал ораторскому искусству Уайльда; сомнения были развеяны, и зрители неистово вызывали автора. Оскар Уайльд встал, поднялся на сцену и склонил голову перед зрительным залом, который стоя приветствовал ею… Сидевшая в первом ряду Лилли Лэнгтри оставила описание, как он был одет в тот вечер: «Черная бархатная куртка, брюки цвета лаванды, вышитый жилет и рука в перчатке жемчужно-серого цвета, не выпускающая сигареты». В зале мгновенно установилась тишина, и Уайльд произнес несколько слов: «Дамы и господа, я в восторге от нынешнего вечера. Актеры блестяще сыграли для нас восхитительную пьесу, а ваше одобрение явилось высочайшим проявлением вашего ума. Я поздравляю вас с вашим огромным успехом, который убедил меня, что вы такого же высокого мнения об этой пьесе, как и я сам». Затем он пригласил всю труппу на ужин к «Уиллису». Все поздравляли его как с удачным выступлением, так и с успехом пьесы; со всех сторон были слышны одобрительный шепот и возгласы под звуки открываемого шампанского. Ни зрители, ни критики, ни его собственный маленький двор не могли даже предполагать, насколько пророческими окажутся слова, вложенные автором в уста леди Уиндермир: «Вы не знаете, что значит попасться в эту ловушку — терпеть презрение, насмешки, издевательства… оказаться покинутой, всеми отверженной! Убедиться, что в дверь тебя больше не пустят, что нужно вползать неприглядными, окольными путями, каждую минуту опасаясь, что с тебя сорвут маску… и все время слышать смех, безжалостный смех толпы — смех более горестный, чем все слезы, которые видит мир».
Пока все видели только праздник, деньги (Уайльд получил семь тысяч фунтов за авторские права) и с любопытством гадали о том, кем ему доводился тот молодой человек, который не отходил от Уайльда ни на шаг и о котором никто ничего не знал.
Предыдущим летом Лайонел Джонсон рассказывал Уайльду об одном из своих друзей-студентов — лорде Альфреде Дугласе. Уайльд сразу влюбился в это имя, ведь он был снобом, каким может быть только английский аристократ, а имя Дуглас носят представители знатнейшего рода, покрытого сверкающим ореолом романтики.
В действительности первые достоверные сведения о предках Альфреда Дугласа относятся к 1358 году, а своими корнями род уходит во тьму времен, к эпохе до правления Вильгельма Завоевателя, вероятнее всего, к 800-м годам после Рождества Христова. Род насчитывает четыре герцогских титула, один графский и три титула маркизов, причем как в Шотландии, так и в Англии и Франции. В 1287 году сэр Уильям Дуглас защищал один из своих замков и был очень серьезно ранен, едва не лишившись головы. Тем не менее ему посчастливилось остаться в живых, и с тех пор он вел жизнь, полную приключений: сражения, насилия, похищение воспитанницы короля Эдуарда I Английского. В конце концов, за тягчайшее предательство, совершенное вопреки данному слову, он был заточен в Тауэр, где и скончался в 1298 году.
Вся история потомства Уильяма Дугласа была отмечена постоянными восстаниями, предательствами, сражениями и тюремными заключениями. В 1455 году прямая линия рода угасла, и на смену ей, вплоть до 1725 года, пришла боковая ветвь. Титул Куинсберри был пожалован роду королем Карлом I Английским во время поездки в Шотландию, где король останавливался в одном из замков Дугласов в Драмланриге.
Прямой предок юного Альфреда Дугласа, «Старый Кью», родился в 1725 году и являл собой пример типичного дворянина, обожавшего роскошь, расточительного и образованного. Он увлекался боксом, скачками, а главное, играл, делая сумасшедшие ставки. Он умер в 1810 году; сначала ему унаследовал двоюродный брат, затем настал черед Джона Шолто Дугласа, девятого маркиза Куинсберри, отца того самого юного Альфреда, который так заинтриговал окружение Оскара Уайльда в тот вечер, когда состоялась премьера пьесы «Веер леди Уиндермир».
Отец Альфреда Дугласа, которого прозвали «багровым маркизом», наследовал не только титул Куинсберри, но вместе с ним и все пороки рода Дугласов. «Он заключал в себе синтез качеств породы, представители которой в течение восьми предыдущих веков правили как регенты, заменяли королей, брали в жены принцесс королевской крови; они были воинами, дворянами, достаточно богатыми землевладельцами, чтобы бросать вызов королевской власти… В них проявился буйный и безумно мстительный темперамент, подкрепленный уверенностью в том, что они стоят выше любых законов и условностей».
В 1858 году Джон Дуглас поступил на флот, затем два года провел в колледже Св. Магдалины в Кембридже. В возрасте двадцати двух лет он женился на очаровательной дочери Альфреда Монтгомери, семья которого имела столь же древние корни, как и его собственная. Он был молод, несказанно богат, являясь владельцем более ста тысяч гектаров земель, и имел годовой доход порядка двадцати — тридцати тысяч фунтов стерлингов. Будучи крайне необразованным, он жил только ради псовой охоты, скачек, женщин и профессионального бокса, для которого разработал «правила Куинсберри», действующие и по сей день. К тому времени он был на самом взлете, несмотря на то, что непомерные расходы уже начали пробивать брешь в огромном состоянии, пополнявшемся за счет доходов от боксерских поединков, которые он организовывал повсюду, вплоть до Соединенных Штатов. В 1880 году он отказался принять присягу, обязательную для каждого пэра королевства, заявив, что это не более чем «религиозный фарс». На этом его политическая карьера была завершена.
И началась карьера семейного тирана. Он полностью пренебрегал женой, предпочитая ей собак или любовниц; когда же он возвращался домой, семейная жизнь представляла из себя постоянные ссоры, побои и ужасающие вспышки гнева. Лорд Альфред Дуглас вспоминал о нем как о грубом животном, который преследовал жену, плевал на собственных детей и издевался над ними. Бернард Шоу счел соответствующим действительному такое экстравагантное его описание: «То был шотландский маркиз, граф, виконт и барон, наделенный высокомерным презрением к общественному мнению, неуправляемым темпераментом и воспылавший после развода болезненной ненавистью к членам своей семьи… Когда он бывал в гневе, он становился настолько груб, что довел своего сына Перси до того, что тот прилюдно ударил его однажды днем на Бонд-стрит». Джон Дуглас был невысокого роста, коренастым и крепким, чаще всего он появлялся в сопровождении одного из своих боксеров, а из-за до безумия вспыльчивого характера его не раз исключали из различных лондонских клубов. Что касается его старшего сына, виконта Драмланрига, то он стал личным секретарем будущего премьер-министра лорда Роузбери.
В 1870 году на свет появился третий сын семейства Куинсберри, Альфред, и с самого рождения ребенок попал в обстановку, которую сотрясали экстравагантные поступки маркиза, и в мир, противостоявший ударам Франко-прусской войны, рабочим восстаниям, мир, в котором тридцать три года правила королева Виктория и где модницы предпочитали прихрамывать с тех пор, как принцесса Уэльская сломала ногу.
С юных лет маленький мальчик получил прозвище «Бози» от собственной матери, которая не могла сдержать своего восторга перед красотой и грациозностью ребенка. В те годы семья жила в доме 18 на Кадоган-плейс, причем уже без маркиза, который уделял домашнему очагу минимум своего внимания. Бози совершенно справедливо считал свою мать самой красивой женщиной в мире и жестоко страдал от гнева отца, взрывы которого становились неизбежными при каждом его появлении. В январе 1887 года родители развелись после того, как Куинсберри начал появляться дома с любовницами. Развод принес облегчение, омраченное ожиданием неминуемых скандалов. Тогда-то и зародилась удивительная ненависть сына к собственному отцу. Начиная с 1889 года Альфред писал стихи и предавался самолюбованию: «Нет никаких причин утверждать, что я не был исключительно красив, будучи еще очень молодым, — напишет он, — и фактом является то, что я сохранил свою внешность и юный вид самым замечательным образом вплоть до сорокалетнего возраста». Какое волнующее совпадение с героем «Портрета Дориана Грея», написанного до знакомства Оскара Уайльда с Бози!
Альфред поступил в Оксфорд; его вполне устраивали студенческие нравы колледжа Св. Магдалины, где главными развлечениями считались спорт и любовные приключения. Он продолжал писать стихи и основал вместе с Лайонелом Джонсоном и Д. А. Саймондсом поэтический журнал «Спирит Лэмп». В один прекрасный июньский день 1891 года Лайонел Джонсон привел его в дом 16 по Тайт-стрит. Оскар Уайльд был в ореоле своего успеха после выхода «Портрета Дориана Грея»; перед взволнованным Дугласом предстал элегантный мужчина крепкого телосложения, который, войдя в свой рабочий кабинет, застал двух молодых людей, с любопытством озирающихся по сторонам и разглядывающих убранство кабинета, в котором Мэтр заканчивал править свой «Гранатовый домик». Бози надолго запомнил эту первую встречу: «Как и многие до него, Бози отметил, что первое впечатление от знакомства с Уайльдом было скорее комичным, но оно рассеялось, едва Оскар начал говорить. Опытному актеру, прекрасно владеющему интонациями своего богатого голоса, не потребовалось много времени, чтобы околдовать студента». Уайльд улыбался красивому, стройному, необычному молодому человеку, скорее похожему на ребенка с почти идеальными чертами лица. В доме накрывали к чаю, и Дугласа представили Констанс, которая на себе ощутила силу его обаяния и вскоре подружилась с матерью молодого человека.
Несколько дней спустя Оскар Уайльд пригласил его поужинать в клуб «Альбермэйл», где появление юного лорда вызвало неподдельное восхищение. Уайльд постарался быть еще более соблазнительным, блестящим, достойным физической красоты Альфреда Дугласа. Ему показалось, что между ними произошли несколько сцен, которые имели место между лордом Генри и Дорианом Греем, что как нельзя лучше подтверждает, что «природа имитирует искусство в гораздо большей степени, нежели искусство подражает природе». И Уайльд прошептал эти слова на ухо Бози.
Этот первый проведенный вместе вечер, который произвел на обоих такое сильное впечатление, остался без продолжения, поскольку Бози Дуглас вернулся в Оксфорд, а Оскар Уайльд уехал в Париж.
Повторная встреча произошла в день премьеры. Именно тогда между ними зародились эфемерные гомосексуальные отношения; старший безумно влюбился в юного студента, безоглядно устремившись навстречу неистовой страсти и новым для себя опасным экспериментам. Дуглас сочетал в себе культуру и образованность Робби с аристократической изысканностью и красотой молодости. Оскар Уайльд ввел лорда Альфреда Дугласа в новое для него литературное общество: Миллес, Рёскин, Уистлер, Латур, Легро, Мане, Луис. Бози, в свою очередь, распахнул для него двери самых закрытых салонов, ему удалось показать Оскара Уайльда в несколько ином свете: из салонной диковинки Уайльд превратился в почетного гостя на любом приеме. Подобную встречу таланта и красоты нельзя не назвать судьбоносной. Однако создается впечатление, что при этом высокомерие Уайльда еще более возросло, что он стремился зайти все дальше, чтобы вызвать безоговорочное восхищение Бози. Дошло до того, что он начал безо всякого стыда афишировать свой гомосексуализм и посещать самые запретные места, где его с удивлением встретил Фрэнк Харрис: «Я обнаружил Оскара сидящим на возвышении в одном из углов зала в окружении двух подростков, походивших на грумов. Несмотря на вульгарную внешность, один из них был по-детски довольно красив; другой же выглядел прежде всего развратным. К своему большому удивлению, я услышал, что Оскар беседовал с ними как с какой-нибудь избранной аудиторией; он, представьте себе, разглагольствовал об Олимпийских играх!». Со своей стороны, Бози Дуглас, которого Уайльд всегда старался держать в стороне от своих распутных знакомых, прекрасно осознавал, с кем имеет дело. Какое-то время спустя после премьеры «Леди Уиндермир» он писал: «Я отнюдь не претендую на звание театрального критика; я всего лишь поэт и не считаю, что вполне могу оценить достоинства пьесы. Я видел „Веер Леди Уиндермир“ по меньшей мере раз двадцать и каждый раз был в восторге от каждого слова».
Если провокационное выступление автора пьесы вечером 20 февраля порадовало зрителей и его немногочисленное окружение, то пресса восприняла его несколько иначе и окрестила «Леди Уиндермир» «буффонадой в форме гвоздики в бутоньерке», задаваясь вопросом, какие же именно изменения внес автор в результате ряда неких критических замечаний. Уайльд не мог оставить эти инсинуации без ответа. 27 февраля 1892 года он писал в «Сент-Джеймс-газетт»: «Позвольте мне опровергнуть сделанное в сегодняшнем вечернем номере Вашей газеты утверждение, будто я внес в свою пьесу изменения, прислушавшись к критическим замечаниям неких журналистов, которые весьма безрассудно и глупо пишут в газетах о драматическом искусстве. Утверждение это — полнейшая неправда и вопиющая нелепица». А правда заключалась в том, что он прислушался к советам своих юных гостей, которые были в тот вечер на премьере, «ведь суждения стариков по вопросам Искусства не стоят, конечно же, ломаного гроша. Художественные наклонности молодежи неизменно пленительны».
Решив на какое-то время свои материальные проблемы, Дуглас вернулся в Оксфорд к концу учебного года. Уайльд уехал в Париж. В апреле 1892 года в витринах цветочных магазинов расцвели зеленые гвоздики, а имя Оскара Уайльда опять попало на первые страницы газет: «Известный английский писатель г-н Оскар Уайльд находится сейчас в Париже. Парижане с любопытством готовятся выслушать эстетические теории этого литератора, который, будучи наделенным чудесным остроумием, обладает к тому же достоинством быть светским человеком с утонченным вкусом и поклонником изысканных манер». Иллюстрированные журналы не отставали; Теодор де Визева представлял его как эстета-прерафаэлита; он подверг желчной критике «Замыслы», но сделал это скорее для того, чтобы показать себя противником недавно появившейся англомании, делающей автора «Саломеи» судьей элегантности и героем парижских литературных обществ.
По возвращении в Англию Оскар Уайльд провел уик-энд в Оксфорде, в квартире, где Бози жил с лордом Энкомбом. Он взял его с собой, когда пошел проведать ректора университета Уолтера Пейтера; они вместе гуляли по парку вдоль реки, задерживаясь под деревьями, откуда лет пятнадцать назад Уайльд и Пейтер наблюдали за купающимися студентами; сейчас один из таких юношей, лорд, сидел возле Уайльда.
Уайльду было известно о гомосексуальных наклонностях Дугласа, несмотря на то, что их взаимоотношения в этом плане оставались фривольными, не доходя до той степени близости, какая была у Уайльда с Россом, Швобом, Аткинсом. Поэтому он нисколько не удивился, когда в мае получил письмо (очаровательное и трогательное) от Дугласа, который оказался замешанным в скандал на гомосексуальной почве. Оскар Уайльд обратился к одному из своих друзей, известному адвокату Джорджу Льюису, который вмешался в это дело и передал сто фунтов шантажисту, угрожавшему открыть правду о связях Бози с некоторыми из своих товарищей. Позднее Уайльд будет вспоминать об этом в «De Profundis»: «Наша дружба, в сущности, началась с того, что ты в трогательном и милом письме попросил меня помочь тебе выпутаться из неприятной истории, скверной для любого человека и вдвойне ужасной для молодого оксфордского студента. Я все сделал, и это кончилось тем, что ты назвал меня своим другом в разговоре с сэром Джорджем Льюисом, из-за чего я стал терять его уважение и дружбу». Сам ужасный маркиз был вынужден признать вину своего сына в этом деле, о чем он написал какое-то время спустя своей невестке: «Я вынужден признать ряд очевидных вещей, касающихся характера Альфреда, и хочу рассказать Вам нечто, о чем всегда знал, но о чем до сего дня хранил молчание. Речь идет об одной ужасной истории, не имеющей ничего общего с Оскаром Уайльдом, и поскольку мне рассказал ее один близкий друг, известнейший адвокат, который сам уплатил эти сто фунтов, чтобы избежать скандала, можно не сомневаться в ее подлинности».
Начиная с того момента отношения Уайльда и Бози приняли совершенно иной характер. Уайльд перестал скрывать от Росса и остальных свою страсть к юному лорду, словно сексуальные отношения не имели с этих пор особого значения для их взаимного чувства, как об этом свидетельствует сам лорд Альфред Дуглас. Уехав в путешествие с Бози, Уайльд писал Россу: «Дорогой мой Робби, по настоянию Бози мы остановились тут из-за сандвичей. Он очень похож на нарцисс — такой же белый и золотой. Приду к тебе вечером в среду или четверг. Черкни мне пару строк. Бози так утомлен: он лежит на диване, как гиацинт, и я поклоняюсь ему». Сам же Бози опубликовал в это время несколько стихотворений в журнале «Спирит Лэмп», из которых видна двойственность этого персонажа, до предела развращенного задолго до знакомства с Уайльдом.
Когда Оскар Уайльд вернулся в Лондон, где его ожидали дела, связанные с выходом ограниченного и эксклюзивного тиража сборника «Стихотворений» в издательстве Элкина Мэтьюза и Джона Лэйна с иллюстрациями, выполненными в сиреневых и золотых тонах в стиле Берн-Джонса и Чарльза Рикеттса, оба любовника стали появляться во всех самых дорогих ресторанах — «Кафе Рояль», «У Кеттнера», «Савой», где Уайльд оставил столько фунтов, сколько шиллингов тратил в свое время в маленьких кафе в Сохо, куда ходил вместе с Робби. Бози не уставая поглощал черепаховый суп, садовых овсянок, запеченных в виноградных листьях, гусиную печень из Страсбурга, запивая все это «Перье-Жуэ». Из-за него вокруг Уайльда создавался вакуум, а по салонам и издательствам начали ходить скандальные слухи. Первым, кто заметил, как пошатнулась репутация Уайльда, стал Фрэнк Харрис. Он решил устроить обед в его честь и уточнил на приглашениях: «Для того чтобы встретиться с г-ном Оскаром Уайльдом и послушать его новую историю». Семеро из двенадцати отказались прийти, остальные ответили, что предпочли бы вообще не встречаться с Оскаром Уайльдом.
Нет ничего удивительного в том, что маркиз Куинсберри, который и без того пришел в ярость от известия о приеме старшего сына Драмланрига в члены Палаты лордов, начал задумываться об отношениях между своим младшим сыном и его старшим другом; он приказал сыну прекратить встречаться с Уайльдом, угрожая отказать в противном случае в ежегодной ренте в размере трехсот пятидесяти фунтов. Бози ответил письмом, полным иронии, попросив не вмешиваться не в свое дело. К этому времени Куинсберри уже успел разругаться с Гладстоном и Роузбери, за которым ему пришлось поехать в Гамбург, где он компрометировал среднего сына, публично угрожая отстегать его хлыстом, что до его отношений с Альфредом, то какое-то время они оставались на том же уровне. Однако страсти продолжали накаляться, и скоро Уайльд оказался в самом эпицентре взаимной ненависти отца и сына.
Кроме того, его отношения с Пьером Луисом, тоже весьма неоднозначные, начинали портиться. Уайльд писал ему в начале июня: «Ты самый очаровательный из всех моих друзей, но ты всегда забываешь писать на письмах обратный адрес. Всегда твой». Луис ответил молчанием. Уайльд сделал еще одну попытку: «Мой дорогой враг, почему ты опять не указал на карточке свой адрес? Я ищу тебя уже два дня! Ты что, отказываешься поужинать сегодня со мной? Встречаемся в „Кафе Рояль“ на Риджент-стрит в 7 час. 45 мин. в утренней одежде. Я буду в восторге, если тебя будет сопровождать Мадам, а я приглашу Джона Грея. Ты ведь знаешь последние новости, не так ли? Сара будет играть Саломею! Мы сегодня репетируем. Немедленно ответь мне телеграммой в „Лирик Клаб“ на Ковентри-стрит. А с часу до двух пополудни я буду обедать в „Кафе Рояль“. Приходи. Оскар».
Сара Бернар и в самом деле начала репетировать в лондонском театре «Пэлес» в костюмах Грэма Робертсона. Но буквально через восемь дней, в конце июня королевский лорд-гофмейстер объявил запрет на постановку пьесы под предлогом того, что в ней показаны библейские персонажи. Сара Бернар пришла в бешенство — ей так и не довелось сыграть в этой пьесе — и заказала своему маленькому придворному поэту Пьеру Луису, который, несмотря на свое молчание и недовольство, все еще оставался очень близок к Оскару Уайльду, написать пьесу, которую она хотела немедленно начать репетировать. Этому проекту не суждено было сбыться, так как на следующий день переменчивая Сара уехала из Лондона, однако именно из-за него появилась на свет «Афродита», которую Луис опубликовал в 1896 году.
Оскар Уайльд воспринял такой поворот событий с сарказмом, объявив о том, что собирается принять французское гражданство — на что в «Панче» сразу появились забавные карикатуры, — и раздавал интервью. «Лично я считаю, — заявил он, — что премьера моей пьесы в Париже, а не в Лондоне, будет для меня большой честью, и я очень ценю это. Огромную радость и гордость доставил мне во всем этом деле тот факт, что мадам Сара Бернар, которая, бесспорно, является величайшей актрисой, была очарована и пришла в восторг от моей пьесы, выразив желание играть в ней. Каждая репетиция была для меня огромным источником наслаждений. Самым большим удовольствием для меня как для художника явилась возможность слышать мои собственные слова, произносимые самым прекрасным в мире голосом… Я никогда не соглашусь считаться гражданином страны, которая проявила такую скудость художественного взгляда. Я не англичанин, я ирландец, а это далеко не одно и то же». «Тартюф, взгромоздившийся за стойкой в своем магазине, — вот что такое типичный британец!». Две эти фразы, вызванные разочарованием, ему никогда не могли простить.
Англичанам было уже не до смеха; Уайльд затронул две деликатные темы: в это время в Ирландии вновь начались восстания против владычества английской короны; кроме того, не стоит забывать, что викторианская эпоха отличалась показными добродетелями, за которыми скрывалось множество темных историй, становившихся достоянием общественности.
Пьер Луис был все еще в Лондоне. Уайльд послал ему вырезку из газеты, касающуюся запрета «Саломеи», и несколько черновых страниц «Стихотворений в прозе», о которых Луис писал: «Я не знаю более ничего, что до такой степени заслуживало бы звания шедевра. Для меня эти стихи — само совершенство. Они прекрасны, как Евангелие от Иоанна». А месяцем ранее он получил оригинальное издание «Гранатового домика» с посвящением, которое, будучи, на его вкус, излишне точным, указывало на нечто большее, чем просто дружеские отношения:
Юноше, который обожает красоту.
Юноше, которого обожает красота.
Юноше, которого обожаю я.
Уставший от шумихи вокруг «Саломеи», раздраженный поведением Луиса, Уайльд уехал к Бози, который гостил у своего деда по материнской линии в Бад-Хомбурге. Констанс осталась в Лондоне и 7 июля 1892 года написала своему брату, сообщив, чем занимается Оскар во время этой поездки: «Оскар в Хомбурге и на строгом режиме; он поднимается в половине восьмого утра, а ложится в половине одиннадцатого; он выкуривает лишь несколько сигарет в день, делает массаж и, конечно же, пьет только воду. Как жаль, что меня там нет, чтобы посмотреть на эту картину». Режим действительно суров, но явно необходим, поскольку его здоровье сильно подорвано разного рода излишествами, которым Оскар предается уже несколько лет, а также глупостью цензоров, отголосок мнений которых доходит даже до парижских газет: «Именно совокупность подобных обстоятельств создает единство редких по своей силе психологических исследований и способствует написанию столь нервного диалога, как это получилось у автора, что и явилось причиной запрета „Саломеи“». Генри Бауэр, присутствовавший на репетициях, сожалел: «Увы! Я едва смог увидеть, как Сара Бернар начала репетировать „танец семи покрывал“, отрабатывая торжественные движения и сладострастные позы под покровом игривых прозрачных тканей, которые натягивали у нее над головой балерины из кордебалета; вместе с тем я внимательно слушал текст, написанный дебютантом французской прозы. Оскар Уайльд безусловно знаком с Метерлинком, и он использовал в своем диалоге прием повторов, как в „Принцессе Мален“… однако несмотря на подражания его проза сохраняет свой оригинальный оттенок». Свет продолжал обсуждать перепалку Уистлера — Уайльда, не уставая повторять остроумные изречения того, кто больше был похож на француза. Общество упивалось шаржами Ретифа де ля Бретона (он же Жан Лоррэн) на английских декадентов, Уистлера и декадентских леди с лилией в руках. Появлялись карикатуры на нежного Алджернона Филда, читающего гонкуровский «Дневник» и принимающего французское гражданство. Монтескью показывал всем письмо, которое только что получил из Лондона от баронессы Аннетт де Пуалли, восторженной почитательницы эстетизма, вошедшего в моду благодаря автору «Саломеи»: «Как я благодарна Вам, мой друг, за то, что вы прислали мне такое интересное исследование. Недаром я называла Вас эстетом! Я наконец узнала, в чем заключается совокупность эстетизма. В поиске абсолютной поэзии и гармонии во всем, что нас окружает. В макияже, одежде, обстановке. На Риджент-стрит есть один эстетский магазин, в котором царит полная гармония цветов и тканей, радующих взгляд. Итак, Вы говорите, что выбор одежды в том, что касается цвета, тесно связан с окружающей меблировкой — и это не шутка (?) — Бодлер сказал: цвет содержит в себе и гармонию, и мелодию, и контрапункт. Ну что еще можно добавить, чтобы точнее отобразить дух этого движения, которое обосновалось здесь у нас? Как я хотела бы познакомиться с его вдохновителем, Оскаром Уайльдом, но его здесь нет. Мне это было бы так интересно… Эстеты и японисты… Тюльпан по-прежнему считается эстетским цветком. С гармоничным к Вам уважением». Уайльдовская мода на эстетизм, которая, кстати, искажала идеи самого Уайльда, встречала все больше приверженцев во Франции и сопровождалась внедрением в обиход целого словаря англицизмов: ростбиф, сленг, лаун-теннис, митинг, ланч, сквер, рекорд… которыми так и сыпали почитательницы Оскара Уайльда, Монтескью, Жана Лоррэна, Мориса Барреса, Пьера Луиса… к неописуемому гневу борцов за чистоту языка, таких, как Гонкур или Франс.
Несмотря на все эти забавные сплетни, Уайльд скучал в Бад-Хомбурге; он писал об этом Пьеру Луису, который продолжал хранить странное молчание: «Почему от тебя до сих пор нет письма? Напиши мне хоть несколько слов. Я ужасно скучаю, а пять докторов запретили мне курить! Я чувствую себя хорошо и очень грущу». Он вновь обсуждал запрещение пьесы в письме к Ротенстайну: «Номинально театральным цензором является лорд-гофмейстер, но реально — заурядный чиновник, в данном случае некий мистер Пиготт, который в угоду вульгарности и лицемерию англичан разрешает постановку любого низкого фарса, любой пошлой мелодрамы. Он даже позволяет использовать подмостки для изображения в карикатурном виде известных людей искусства, и в то же время, когда он запретил „Саломею“, он разрешил представлять на сцене пародию на „Веер леди Уиндермир“, в которой актер наряжался, как я, и имитировал мою речь и манеру держаться!!!.. В Англии свободны все виды искусства, кроме сценического; цензор утверждает, что театр принижает и что актеры профанируют высокие сюжеты, а посему он запрещает не публикацию „Саломеи“, но ее постановку. И однако же ни один актер не выразил протеста против такого оскорбления театра — даже Ирвинг, который все время разглагольствует об Актерском Искусстве. Это показывает, как мало среди актеров художников».
Таким образом теперь, когда Уайльд уже бросил вызов критикам, журналистам, публике, он принялся еще и за английских актеров, как бы стараясь создать совершенно беспросветную ситуацию в тот самый момент, когда он оказался наиболее уязвимым. В Англии одна только газета «Уорлд» осмелилась встать на его защиту и открыто выступить против цензуры в письме, опубликованном на ее страницах 1 июля: «Настоящее произведение искусства, утвержденное, изученное и уже репетируемое величайшей актрисой нашего времени, неожиданно попадает под авторитарный запрет в тот самый момент, когда личность самого автора подвергается постоянному, ежевечернему и публичному осмеянию».
Наконец в начале августа Уайльд вернулся в Лондон к своей прежней жизни и, в частности, к своим друзьям — Джону Грею и Фрэнку Харрису, которые всем назло продолжали устраивать в его честь приемы. Он восстановил связь с Пьером Луисом — тот вновь начал отвечать на его приглашения, несмотря на довольно странные предосторожности, которые он принял, пытаясь объяснить возобновление этих отношений; вот что он писал своему брату Жоржу Луису: «Я говорил тебе, что близко познакомился с Сарой Бернар? Она уже две недели репетировала французскую пьесу Оскара Уайльда, когда все было внезапно прервано по приказу королевского лорд-гофмейстера, который счел пьесу святотатством. Уайльд очень расстроился из-за этой смехотворной цензуры… Я трачу все больше и больше денег. Здесь я живу практически за счет Оскара Уайльда, и поэтому из чистой вежливости ежедневно обязан отвечать ему (ему или его друзьям) аналогичными приглашениями». Луис ухаживал за Эллен Терри, что не мешало ему следовать за Уайльдом из ресторана в ресторан, из салона в салон. В октябре 1892 года его призвали на военную службу, которую он проходил в Аббевилле, и там Андре Жид поставил его в известность о нравах Уайльда. Как позже поведал Луис Полю Валери, он предложил Жиду написать ужасное письмо, однако тот, конечно же, ничего не написал, зато по окончании службы помчался в Лондон!
В то же самое время Уайльд арендовал ферму Гроув недалеко от курортного местечка Кромер на берегу Северного моря, к северо-востоку от Лондона. Он перевез туда Констанс с детьми и пригласил к себе Бози. Уайльд развлекался тем, что строил песочные замки с Сирилом и Вивианом, которым было уже, соответственно, семь и пять лет, или играл с Бози в гольф. Здесь же он написал большую часть своей пьесы «Женщина, не стоящая внимания» и объявил об этом в следующих выражениях директору театра «Хеймаркет» Герберту Бирбому Три: «Что же касается пьесы, я написал уже два акта и отдал перепечатать машинистке; третий и четвертый акты закончены, и я надеюсь, что все будет готово дней через десять — пятнадцать, самое позднее. Своей работой я пока очень доволен»… Одним словом, пребывание у моря превратилось в идиллию, особенно для Констанс, вновь обретшей на какое-то время прежнюю роль в обществе мужа, детей и Бози, которого она ценила больше, чем остальных друзей Уайльда; она даже не догадывалась о любовных отношениях, которые существовали между ним и Бози, и была счастлива при виде спокойствия мужа, который много работал, заканчивая большую поэму «Сфинкс», готовил очередное издание «Саломеи» и вносил последнюю правку в рукопись «Женщины, не стоящей внимания».
Тем не менее спокойствие оказалось зыбким. Альфред Дуглас быстро пресытился семейными радостями и вернулся в Лондон; Уайльд оставил семью, бросил работу и тоже сорвался с места. Он снял номер в гостинице «Альбермейл» и вернулся к прежнему образу жизни, влюбившись в молодого актера Сидни Барраклафа, которому писал бредовые письма, характерные для Уайльда, когда он обращался к юношам: «Вы действительно прекрасно исполнили роль Фердинанда в „Герцогине Амальфи“. Вам блестяще удались и редкий стиль, и изысканность в сочетании с силой и страстью. Когда Вы выходите на сцену, Вы привносите атмосферу романтизма, в которой гордая и жестокая Италия эпохи Ренессанса предстает во всем своем великолепии, в чудовищном безумии своего дерзкого греха и внезапном ужасе от содеянного». Он пригласил актера вместе пообедать. Не в силах противиться своим желаниям, Уайльд принялся восхвалять таланты молодого актера, которых ему в действительности явно недоставало, если верить прессе, посвятившей положительные статьи пьесе Уэбстера3, но написавшей о Барраклафе так: «Высокомерие Фердинанда и его порывистость были нивелированы отсутствием собранности у актера». Однако такова была натура Уайльда, которому было свойственно возвеличивание предмета своей страсти, вплоть до вознесения оного в сферу искусства; подобно многим другим, Сидни стал темой разговоров в среде эстетов.
А затем произошла более знаменательная встреча: Оскар познакомился с Альфредом Тейлором и представил его Бози. Эта встреча стала началом его погружения в ад. К тому времени Тейлору, сыну богатого торговца, исполнилось тридцать. Его связывала крепкая дружба с одним из близких приятелей Уайльда, Морисом Швабом. В восемнадцатилетнем возрасте он поступил на службу в 4-й полк королевских стрелков в Лондоне, рассчитывая сделать там карьеру, но после смерти дяди он наследовал огромную сумму — сорок пять тысяч фунтов, которую бездумно растратил и к октябрю 1892 года разорился. Этому образованному и обворожительному мужчине пришла идея собирать у себя на чашку чая определенного рода мужчин с тем, чтобы предоставить им возможность знакомиться с юными бездельниками, готовыми на все ради нескольких шиллингов. Это он при посредничестве Мориса Шваба познакомил Уайльда с юным Сидни Мейвором. И Уайльд отправился в «Кеттнерс» на встречу с Бози в сопровождении Тейлора и Мейвора. Стремясь окончательно покорить юного сообщника, который был и без того счастлив, Уайльд буквально искрился от возбуждения, когда друзья остались в отдельном кабинете ресторана, где им накрыли стол. В конце концов он оставил Бози в обществе Тейлора и вернулся в гостиницу с Сидни, чтобы завершить вечер вдвоем. На следующий день молодой актер получил по почте портсигар, на котором была выгравирована надпись «Сидни от О. У.». Неизвестно, сколько юных счастливцев с Литтл Колледж-стрит (именно по этому адресу располагалось логово Тейлора) получили в подарок портсигары, но частые визиты Уайльда к Тейлору всегда заканчивались ужином, совместно проведенным вечером и обещаниями новой встречи.
Однако Уайльд не бросал своего «сердечного возлюбленного» Бози, к которому продолжал пылать страстной платонической любовью. Он чуть ли не каждый день обедал вместе с ним. Как-то раз, устроившись за столиком в «Кафе Рояль», друзья заметили «багрового маркиза». Взаимная ненависть отца и сына, главная причина которой заключалась в привязанности Бози к матери, подвергавшейся чудовищным оскорблениям со стороны мужа, еще не выплескивалась тогда на всеобщее обозрение. Поэтому Бози спокойно направился к столику Куинсберри, чтобы пригласить его присоединиться к ним. Уайльд пустил в ход все свое обаяние и остроумие, и через десять минут маркиз хохотал во все горло, жадно прислушиваясь к уайльдовскому монологу. Тем временем Дуглас потихоньку исчез; Куинсберри и Уайльд остались в обществе друг друга до самого вечера и расстались лучшими друзьями. Сам Куинсберри в письме, написанном сыну на следующий день, подтверждал, что изменил свое отношение к Уайльду. Он даже хотел взять назад все, что говорил ранее: оказалось, что Уайльд совершенно очарователен и бесконечно остроумен; Куинсберри уже не удивлялся тому, что Бози от него без ума. Кроме того, Уайльд, как оказалось, был близко знаком с его друзьями — лордом и леди Грей: для сноба-маркиза это известие стоило любых рекомендаций. Бози пришел от письма в полный восторг.
Тем не менее мать Бози, которая принимала у себя Оскара Уайльда и его жену только для того, чтобы доставить удовольствие сыну, не разделяла этого мнения. Однажды, когда Уайльд с супругой приехали на уик-энд в ее родовое поместье в Бракнелле, она пригласила его прогуляться по осеннему парку и завела разговор о том, насколько тщеславен и экстравагантен бывает порой в своих поступках Бози, давая тем самым понять собеседнику, что столь близкие отношения между известным обществу человеком и юношей неизбежно дадут почву для различных сплетен. Она не понимала, что Уайльд влюблен и что жизнь его протекала в возбужденном и неистовом ритме, не оставлявшем места для материнских тревог. Этот человек, готовый пренебречь собственной женой и транжирить время и деньги вместе с Бози в обществе Тейлора, человека крайне сомнительной репутации, не считал важным, чтобы Бози прислушивался к мнению матери.
Вместе с тем Уайльд чувствовал, что ему не удастся закончить пьесу в лихорадочной и полной страстей атмосфере Лондона. В конце октября он арендовал у леди Маунт Темпл ее имение Баббакумб Клифф, расположенное близ Торбэй. В своем письме к ней, отправленном из Бурнмаут, он писал: «Уважаемая и любезная графиня, с детьми богов не принято спорить, поэтому я подчиняюсь Вашему решению без малейшего звука, за исключением слов признательности и благодарности… Я собираюсь поработать над двумя пьесами, одна из которых будет написана белым стихом, и знаю, что покой и красота Вашего дома смогут создать для меня такую обстановку, когда я услышу неслышное и увижу невидимое». Маленький рыбачий поселок, расположенный на западном берегу бухты Торбэй на самой вершине отвесной скалы, спускающейся прямо к воде, как нельзя лучше подходил для спокойной жизни, к которой стремился писатель. Поселок представлял собой нагромождение старомодных и полуразрушенных домишек, приютившихся у подножия скалы, основание которой омывалось приливом. В порту, будто врезавшемся в землю, тесно жалась друг к дружке целая флотилия рыбацких лодок; причал, окутанный смешанным запахом озона и гудрона, был завален грудами порванных сетей и обломками весел.
Дом в Баббакумб Клиффе представлял собой живописную усадьбу XVI века, окна которой выходили в чудесный парк, полный деревьев и расположенный в некотором отдалении от моря. Внутреннее убранство было выдержано в прерафаэлитском стиле: гобелены Уильяма Морриса, полотна Берн-Джонса. Устроив Констанс и детей, Уайльд тем не менее вернулся в Лондон, не в силах противиться своей тяге к группе молодых гомосексуалистов, к которым не так давно присоединились Макс Бирбом и Регги Тернер; центром этой группы был он сам. Морис Шваб регулярно посылал к нему все новых «пантер», соблазнявших его так же, если не больше, чем Бози; к последним относился Фред Аткинс, и Уайльд вновь погрузился в мир мужской проституции, который возбуждающе действовал как на чувства, так и на воображение, создававшее образы неких «двусмысленных личностей, вытянувшихся в пестрый кортеж». Постоянные наскоки Бирбома Три, который ждал пьесы, волнения по поводу издания «Саломеи», выход которой ожидался в «Книгоиздательстве Независимого Искусства» с фронтисписом Фелисьена Ропса и посвящением Пьеру Луису. Уайльд разрывался между Баббакумб Клиффом, где ждала его работа, Лондоном с его развлечениями и своей второй родиной — Парижем.
Бози опять вернулся в Оксфорд и погрузился в работу над журналом «Спирит Лэмп», где он публиковал стихотворения Уайльда, Джонсона, Саймондса, а также собственные стихи, удостоенные меланхолической похвалы Оскара, страдавшего от долгой разлуки: «Любимый мой мальчик, твой сонет прелестен, и просто чудо, что эти твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю: в эпоху греков ты был Гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон. Почему ты один в Лондоне и когда собираешься в Солсбери? Съезди туда, чтобы охладить свои руки в сером сумраке готики, и приезжай, когда захочешь, сюда. Это дивное местечко — здесь недостает только тебя; но сначала поезжай в Солсбери». Таково это полное страсти письмо, или стихотворение в прозе, чья судьба будет не менее экстравагантна, чем содержание, поскольку оно окажется в руках у некоего Альфреда Вуда, вместе с которым Дуглас будет замешан в очередном скандале в Оксфорде, и в конечном счете обернется против своего автора во время судебного разбирательства. Кроме того, Пьер Луис, к которому тоже неизвестно каким образом попадет это письмо, опубликует именно в «Спирит Лэмп» его рифмованное переложение, выполненное никому не известным поэтом; это лишний раз доказывает его подозрительную близость с уайльдовским окружением:
Гиацинт, о мое сердце, белокурый, шаловливый,
Чьи глаза морскою синью светозарно горят,
Рот же пурпуром объят, словно дней моих закат,
Я люблю тебя, дитя, Феба баловень счастливый.
Голос твой нежней, чем лиры сладостны переливы,
Что, в ветвях играя с ветром, тихим шелестом звучат,
Стоит лишь рукою тронуть кудрей шелковый каскад,
Венчанный душистым хмелем и акантом прихотливым.
Ты ныне прочь спешишь, влеком разгадкой тайны
К Геракловым столпам, где в сумраке печальном
Спит Древности душа. Что ж, там омой персты
И возвращайся вновь, мне слишком нужен ты,
О Гиацинт! Твой облик идеальный
Мне грезится средь роз в садах моей мечты.
Если относительно связи Луиса с этой группой остается теряться в догадках, то можно в очередной раз констатировать, что, каким бы беззаботным ни казался Уайльд, в своих письмах к Бози и к остальным он идеализирует опасную для себя реальность, в которую сам бросается без оглядки и которая хранит его тайну, так скоро и даже преждевременно переставшую быть таковой. В этом и заключался смысл фразы, которая прозвучала как взрыв посреди пустых дел, отвлекавших его внимание: «Только легкомысленные люди не судят по наружности. Тайна мира заключена в том, что мы видим, а не в том, чего не видим».
Конец 1892 года; Бози приехал к Уайльду в Баббакумб Клифф вместе со своим учителем Кемпбеллом Доджсоном. Уайльд наконец-то закончил «Женщину, не стоящую внимания» и внимательно следил за репетициями «Веера леди Уиндермир», премьера которой была назначена на 2 января 1893 года в театре «Торкуэй». В обществе Бози его жизнь вновь стала экстравагантной и полной веселья. Уайльд увлек сурового Доджсона в смутную атмосферу, которую тот не без удовольствия описывал в письме к Лайонелу Джонсону, воспылавшему к Уайльду неудержимой ненавистью с тех пор, как началась его связь с Дугласом: «Наша жизнь отличается ленью и праздностью; все моральные принципы отодвинуты в сторону. Мы можем в течение долгих часов дискутировать о различных интерпретациях платонизма. Оскар заклинает меня, скрестив руки на груди и со слезами на глазах, чтобы я оставил свою душу там, где она сейчас пребывает, и посвятил не менее шести недель своему телу. Бози необыкновенно красив и обаятелен, но в глубине души очень испорчен. Он в восторге от идей Платона относительно демократии, и никакие мои аргументы не в силах заставить его возыметь веру в какие-либо этические правила или во что бы то ни было другое. Мы не занимаемся ни логикой, ни историей, а вместо этого играем с голубями и детьми или гуляем вдоль берега моря. Оскар живет в самой артистической комнате в доме, которую называет Заколдованная страна, и размышляет о своей будущей пьесе. Я нахожу его совершенно восхитительным, хотя в душе считаю, что его моральный облик отвратен. Он заявляет, что мой моральный облик также нехорош… Скорее всего, я потеряю здесь последние оставшиеся у меня крупицы религии и морали». Он уехал из этого пропащего места одновременно с Констанс, которую вместе с детьми пригласили во Флоренцию. Уайльд и Бози остались одни. Они продолжали проводить свой медовый месяц у моря, в саду, в обществе поэтов и писателей: Диккенса, Мередита… О гомосексуальных отношениях больше было разговоров. Чувства Уайльда крепли в своем платонизме, что он неоднократно подчеркивал, однако никто не возьмется утверждать это с полной уверенностью, так как именно в платонизме и заключается истинная тайна этой связи, которую трудно осмелиться назвать невинной.
Тем временем совместная жизнь омрачилась первой ссорой, возникшей между любовниками из-за сущего пустяка, но продемонстрировавшей тем не менее вспыльчивость потомка рода Дугласов. Альфред подарил Уайльду брошь из бирюзы, усыпанную бриллиантами, которую тот носил на манишке. Дуглас счел это вульгарным, а близость с Уайльдом позволила ему сказать об этом с меньшим почтением, чем того был достоин знаменитый писатель. Первый разрыв: Бози хлопнул дверью, остановился в Бристоле, начал размышлять о последствиях и испытал угрызения совести, может быть, даже сожаление. Он телеграфировал Уайльду, который помчался в Бристоль и увез Бози в лондонский «Савой». Через несколько дней Бози снова вспылил, когда Уайльд упрекнул его в неосторожности, из-за которой его знаменитое письмо «Гиацинт» оказалось в руках у Вуда. Бози пришел в бешенство и тотчас уехал к матери в Солсбери. Оттуда он снова попытался примириться, и Уайльд написал ему еще одно безумное письмо: «Самый дорогой из всех мальчиков, твое письмо было для меня так сладостно, как красный или светлый нектар виноградной грозди. Но я все еще грустен и угнетен. Бози, не делай мне больше сцен. Это меня убивает, это разрушает красоту жизни. Я не могу видеть, как гнев безобразит тебя, такого прелестного, такого схожего с юным греком. Я не могу слышать, как твои губы, столь совершенные в своих очертаниях, бросают мне в лицо всяческие мерзости. Предпочитаю стать жертвой шантажа всех лондонских сутенеров, чем видеть тебя огорченным, несправедливым, ненавидящим. Я должен срочно тебя увидеть. Ты — божественное существо, которого я жажду, ты — гений изящества и красоты… Приеду ли я в Солсбери? А почему ты не здесь, мой дорогой, мой чудесный мальчик? Боюсь, что скоро буду вынужден уехать; ни денег, ни кредита, и свинцовая тяжесть на сердце».
В феврале 1893 года Уайльд действительно уехал в Париж. Он отправился туда, чтобы аплодировать Лои Фюллер, увековеченной на полотнах Тулуз-Лотрека, попытаться разобраться в причинах ареста Шарля де Лессепса, оказавшегося замешанным в панамском скандале, а главное, опять стать центром вечеринок в литературных и светских салонах, где не смолкали дифирамбы в честь его таланта романиста, драматурга и эстета. В одном из первых февральских номеров «Ле Голуа» можно было прочесть: «На этой неделе только и было разговоров, что о сиреневом обеде, который принцесса Урусофф устроила в честь Оскара Уайльда. Поскольку прием пищи должен был смениться литературным чтением, принцесса пожелала, дабы привести гостей в состояние, наиболее подходящее для прослушивания новой пьесы английского символиста, чтобы вся обстановка и аксессуары на этом приеме носили мягкий и нежный оттенок, соответствующий тонкой меланхолии, которую должно было навеять произведение искусства». Среди тщательно отобранных гостей — Морис Баррес, Эдмон де Гонкур, Марсель Швоб и Анатоль Франс в сопровождении Арманды де Канаве. Франс не был участником попоек в обществе завсегдатаев Латинского квартала и имел еще меньше отношения к группе символистов-декадентов, однако ему была известна репутация Уайльда по дошедшим до него легендам, окружавшим образ гениального рассказчика. Картина артистической жизни Древней Греции, которую нарисовал в тот вечер оратор, покорила его. Несколько позже он писал: «Я не знаю, какого цвета этот отрывок, но на вкус он восхитителен».
К тому времени мало кто во Франции был знаком с творчеством Оскара Уайльда, если не считать поэтов, писателей и журналистов, вращавшихся вокруг Стефана Малларме, который был другом Уайльда, и Жана Мореаса, духовного отца символистов, автора знаменитого манифеста, обозначившего в 1886 году доктрину символизма. Другие, как, например, Марсель Швоб, приветствовали культ декаданса, чьим идеальным воплощением стал Дориан Грей. А те, кто не посвящал ему своих произведений, как, например, Марсель Швоб, Пьер Луис, Ж.-Э. Бланш, писали о нем статьи, которые печатали многочисленные небольшие журналы, старавшиеся выглядеть проповедниками новой декадентской доктрины, порождения символизма, чьей живой моделью выступал «волшебник изящных манер» Оскар Уайльд. Эти статьи рисуют подробнейшую картину пребывания Уайльда во Франции в начале 90-х годов прошлого столетия, подчеркивая, насколько изображенный персонаж может оказать отрицательное влияние на образ автора «Дориана Грея» и «Замыслов», того самого критического произведения, на которое как раз ссылался Анатоль Франс. И уже в который раз крылатые слова Уайльда: «Я вложил свой гений в собственную жизнь, а талант — только в творчество» — оказались на удивление пророческими.
Гастон Рутье, корреспондент газеты «Эко де Пари», вспоминал, как встречал когда-то в Стратфорде Уайльда, одетого в редингот из светлого сукна, украшенного гвоздикой и широким галстуком из фуляра кремового цвета: «Сияло солнце, и все складывалось удачно для этого чудесного рассказчика, который прибыл в карете с гербами в обществе двух восхитительных девушек и очаровательного молодого человека». Какое же разочарование испытал журналист при виде Уайльда теперь! Он отметил, что Уайльд погрузнел, начал краситься, что возле него находился молодой человек, чьи манеры мало соответствовали его прежнему образу. Этим молодым человеком был юный посетитель заведения Тейлора Фред Аткинс, который сопровождал Уайльда в качестве секретаря.
Марсель Швоб, относившийся к Уайльду с неизменным восхищением, втайне ревнуя, не мог удержаться от того, чтобы не нарисовать его портрет в стиле Гонкура: «Крупный, с большим лицом, лишенным растительности, и щеками кровавого цвета, ироничный взгляд, плохие зубы, выступающие вперед, порочный детский рот с пухлыми губами, словно сохранившими следы молока, но готовыми присосаться вновь. Ось надбровных дуг и очертание губ выглядят обманчиво и подчеркнуто надменно. На нем длинный коричневый редингот и необычный жилет, в руках трость с золотым набалдашником».
Жюль Ренар как-то обедал в обществе Уайльда, Адольфа Ретте и Стюарта Меррилла; сначала беседа зашла об Андре Жиде, после чего сидевшие за столом мужчины принялись слушать, как тот, чьим талантом рассказчика, вернее, мастера монологов, все так восхищались, излагал философию гедонизма. «Оскар Уайльд сидит во время обеда рядом со мной. Он оригинален, как всякий англичанин. Он угощает вас сигаретой, но сам выбирает ее. Он не обходит вокруг стола, а предпочитает побеспокоить всех, кто за ним сидит. У него помятое лицо с маленькими красными прожилками и длинные зубы, изъеденные кариесом. Он огромен и носит огромную трость». Однако все это забывается, стоит ему начать говорить, и Жюль Ренар, затаив дыхание, слушал рассказы Уайльда о войне в Тонкине, о мадам Баррес, которую он не видел, так как не мог видеть то, что некрасиво, о политике, об истории, обо всем; в конце концов Ренар пришел к мысли, что этот англичанин был в действительности гораздо интереснее, чем даже хотел казаться.
Камиль Моклер, который познакомился с Уайльдом у Пьера Луиса, был поражен еще больше; первая встреча разочаровала: «Однажды, зайдя домой к Пьеру Луису, я познакомился с Оскаром Уайльдом. Луис неизменно отзывался о нем с таинственным почтением и, видимо, решил, что оказал мне большую честь, пригласив, в компании с несколькими тщательно отобранными символистами, полюбоваться на августейшую персону, прибывшую из Лондона и пользовавшуюся репутацией гения и неподражаемого денди». Уайльд заметил, какое произвел впечатление, и решил его исправить. Он встретился с Моклером еще раз у Швоба: «Я принял приглашение, и на этот раз Уайльд мне очень понравился, так как оставил свой снобизм и говорил очень просто, мило, грациозно, со знанием дела, оригинально и блестяще».
Еще один современник, Эрнест Рено, наблюдавший со стороны за жаркими спорами символистов, не мог пройти мимо и не познакомиться с любимцем Парижа Оскаром Уайльдом, который, будучи снобом и вместе с тем человеком безудержного темперамента, свободным от кошмаров анархизма и далеким от политических и финансовых скандалов, искал забвения в праздности и сумасбродстве. Во время одного из очередных банкетов у Мореаса Уайльд изложил ему свои философские принципы, и Рено, покоренный настолько же, насколько и согласный с собеседником, записал: «Идея Оскара Уайльда заключалась в том, что каждый человек имеет право на счастье и, как сказал Гёте, на философию, которая не разрушала бы его личность, и он заявил, что считает законными любые средства, которыми человек стремится этого добиться».
Анри де Ренье с удовольствием встречался с Уайльдом каждый раз, когда тот приезжал в Париж, либо у монакской принцессы Алисы, либо у мадам Беньер; его восхищали уайльдовские наряды, белые и пухлые руки, «на безымянном пальце одной из них красовался перстень со скарабеем из зеленого камня. Высокий рост этого человека позволял ему носить нараспашку широкие и длинные рединготы, открывая при этом яркие жилеты из гладкого бархата или из вышитого атласа». Ренье ужинал у принцессы Монакской в обществе героя дня: «На скатерти посреди стола стояло огромное блюдо, к которому вела дорожка из пахучих фиалок. В бокалах пенилось шампанское, а для фруктов подали золотые ножи. Г-н Уайльд говорил».
Некоторое время спустя после приема у Барреса, чей дом обязан был своей славой «Портрету Дориана Грея» и «Саломее», еще один завсегдатай литературных салонов Жан-Жак Рено попал на ужин к родственникам Констанс: «Когда, опоздав на час, г-н Уайльд появился в гостиной, своим внешним видом — высокий и слишком полный с гладко выбритым лицом — он отличался от какого-нибудь букмекера из Отей лишь одеждой, подобранной с большим вкусом, исключительно музыкальным голосом и чисто-голубым, немного детским светом, лучившимся во взгляде». Цинизм и вульгарность всеобщего идола привели Ж.-Ж. Рено в ужас. Но вот публика переместилась в гостиную, и Уайльд, прислонившись спиной к камину и окинув взором аудиторию, начал говорить. Волшебные звуки мгновенно околдовали всех присутствовавших: «Его чудесный голос пел, жаловался, звучал подобно виоле среди всеобщего взволнованного молчания. Он исходил из самых глубин души этого англичанина, казавшегося столь комичным буквально несколько минут назад, поражал своей простотой, он превосходил по своей выразительности все самые прекрасные оды человечества. Многие из нас прослезились. Невозможно представить, чтобы человеческая речь могла быть столь великолепной, при том, что все это происходило в обычной гостиной и говорилось в духе обычной салонной беседы».
Начиная с 1883 года Жак-Эмиль Бланш вводил Уайльда в литературные и светские круги. По настоянию Мориса Барреса, он даже выставлял небольшую картину, которая называлась «Стихотворения Оскара Уайльда», за что, как известно, заслужил благодарность Уайльда. Теперь же, уподобившись прочим, он делал вид, что обо всем забыл, и описывал Уайльда с преувеличенным натурализмом, в полном соответствии с тем, как это принято сегодня: «Лицо Оскара сделалось мягким, наподобие маленьких резиновых головок, которые выглядывают в круглую дырочку, проделанную посередине каждой страницы в детских книжках… тонкий рот, слегка рыхловатый, особенно в уголках, которому не чуждо выражение надменного презрения, но, как мне показалось, на манер того, как это бывает у старой женщины». Тем не менее Ж.-Э. Бланш одним из первых заметил ту глубину мысли, которая скрывалась за виртуозностью рассказчика: «Уайльд был необыкновенно остроумным и гениальным рассказчиком. Его беседа полностью затмевала критический талант Жида… А что до лжи, до этой маски Оскара Уайльда… Ложь как произведение искусства. Это ужасно, ужасно — но какая глубина!»
Можно было сколько угодно обвинять Уайльда в плагиате, цитировать вперемешку Метерлинка, Гюисманса, Флобера, Сарду, Дюма-сына, разоблачать его культ зеленой гвоздики, его высокомерие — все это не мешало его имени не сходить с первых страниц французских и английских газет, а его творчеству закладывать основы целого литературного движения, которое вдохновляло и наполняло содержанием целый ряд маленьких журналов конца прошлого века. Так, например, Стюарт Меррилл в экстазе восклицал на страницах «Ла Плюм»: «Музой Оскара Уайльда можно было бы назвать Галатею, чрезмерно украшенную огромным числом браслетов, колец и подвесок, которая распахивает навстречу залитой солнцем жизни свои объятья, еще хранящие холод мрамора, из которого она создана… Быть может, Оскар Уайльд является одним из последних, кого Святой Дух одарил таинственным даром творца иллюзий».
Несколько позже Анри Боер так обобщил бытовавшее в ту эпоху мнение: «Его необычный внешний вид, высокий рост, изысканность эстетского туалета подчеркивали некрасивость крупного и одутловатого лица, усыпанного веснушками и озаряемого светом умных и насмешливых глаз. Стоило ему начать говорить, как слушателей покоряло его остроумие и необычные повороты мысли, и никто уже не обращал внимания на скверный рот, откуда изливались волшебные слова».
Уже в течение нескольких лет Париж считал Уайльда великим проповедником декаданса, в котором главенствовали искусственность, надуманность, преувеличение и мрачность; всеобщее восхищение вызывала дикая музыка Вагнера, удушающая атмосфера пьес Ибсена, и в то же время музы оставались живыми, выряженными в модную мишуру или раздетые стараниями Уорта, Поля Пуаре или Жака Дусе, которых прозвали «маленькими Боттичелли»: гашиш и эфир, редингот с бархатным воротником и цветастый жилет дополняли общую картину, в которой обязательными атрибутами стали лилия и павлин. А посреди этих декораций возвышалась отяжелевшая фигура автора «Саломеи», оставлявшего то тут, то там отпечаток своего насмешливого взгляда и скандальных нравов.
На одном из вечерних приемов у мадам Стросс Оскар Уайльд ответил на вопрос Люси Делярю-Мардрюс, которая имела глупость спросить, почему он не разрешает ставить «Саломею»: «Чтобы сыграть Саломею, нужна женщина с синими волосами. Я не хочу, чтобы она была в парике. Я хочу, чтобы ее волосы от природы были синего цвета. Найдите мне женщину с синими волосами… Я хочу, чтобы все персонажи были одеты в желтое. Желтый цвет — цвет королей. Небо будет фиолетовое, а вместо инструментов в оркестровой яме будут установлены курительницы для благовоний. Придумайте новый запах для каждого нового чувства». А в беседе с испанским дипломатом Гомесом Карилльо, который представил его Полю Верлену, Уайльд говорил о том, каким, по его мнению, должен быть костюм Сары Бернар в роли Саломеи: «Да, она будет совершенно обнаженной. Только украшения, множество украшений, настоящий плетеный узор из драгоценных камней; все камни будут сверкать, создавая подлинную музыкальную ткань на ее бедрах, запястьях, руках, вокруг шеи и на груди, а их сверканье еще больше оттенит бесстыдство ее смуглой кожи. Дело в том, что я не могу представить себе Саломею, творящую свои деяния неосознанно, Саломею, которая была бы всего лишь пассивным инструментом… Ее желание должно стать бездной, а испорченность океаном. Даже жемчужины должны умирать от страсти у нее на груди».
Французское издание «Саломеи» вышло в Париже 22 февраля 1893 года, в то время как Уайльд уехал сначала в Лондон, затем в Баббакумб Клифф, где наконец закончил «Женщину, не стоящую внимания». Вскоре Уайльд снова был в Лондоне, где правил гранки «Сфинкса» в издательстве Элкина Мэтьюза и Джона Лэйна. Он не забывал и о «Саломее», которая пользовалась большим успехом у книготорговцев во Франции.
Уайльд написал известному критику Эдмунду Госсу: «Позвольте преподнести Вам экземпляр „Саломеи“, которая стала моей первой попыткой использования в художественных целях тончайшего музыкального инструмента, каковым является французский язык». Еще один экземпляр он отправил по почте Бернарду Шоу, который писал: «Саломея все еще продолжает искать меня, блуждая в своем пурпурном одеянии, и я ожидаю скорого прибытия этой идеальной грешницы со следами почтовых марок и отметинами грубых рук, которые обрекли ее на заточение в красных почтовых тюрьмах, удушливых и кишащих нечистотами». Несмотря на то, что Оскар, которому успех «Саломеи» принес, кстати, семьсот фунтов, заявлял, что снова сидит без денег, он поселился в гостинице «Савой», где принимал новых «пантер» — братьев Паркер. Оставаясь по-прежнему исключительно внимательным к критике, он дал очень важное пояснение в ответ на статью в «Таймс», в которой утверждалось, что пьеса якобы написана специально для Сары Бернар: «Я жажду получить удовольствие и увидеть мадам Сару Бернар в постановке моей пьесы в Париже, в этом восхитительном центре искусств, где часто ставят драмы на религиозные сюжеты. Но моя пьеса ни в коем случае не была написана специально для этой великой актрисы… Я никогда не писал пьес для какого-нибудь определенного актера или актрисы и никогда не буду этого делать. Такая работа подошла бы, скорее, ремесленнику от искусства, а не художнику».
В марте 1893 года Герберт Бирбом Три начал репетировать в театре «Хеймаркет»4 «Женщину, не стоящую внимания».
В это же время случилась и первая неприятность, ставшая предвестником будущих трагедий. Герберт Бирбом Три получил по почте копии безумных писем Оскара к Бози, и в частности письмо «Гиацинт». Он не скрыл своего удивления и попросил у Уайльда объяснений; тот небрежно ответил, что речь идет о стихотворениях в прозе. Несколько дней спустя, у выхода из театра Уайльда поджидал незнакомый молодой человек по имени Аллен, который предложил Уайльду оригиналы его писем за десять фунтов; Уайльд воскликнул: «Десять фунтов! вы ничего не смыслите в литературе. Если бы вы попросили у меня пятьдесят, тогда я, может быть, и заплатил бы вам. С другой стороны, у меня есть копии этих писем, и мне совершенно не нужен оригинал. До свидания». Аллен не отступал и на следующий день звонил в дверь дома 16 по Тайт-стрит. Уайльд, по-прежнему уверенный в себе и беззаботный, торговался, соглашаясь оплатить расходы шантажиста, который хотел уехать в Соединенные Штаты, иронизируя при этом: «Колумб уже подумал об этом раньше вас. Я надеюсь, вам повезет больше, чем ему, и вы проплывете мимо американского континента!» Однако Аллен на этом не успокоился и продолжал преследовать Уайльда с письмом «Гиацинт», которое он Уайльду не вернул. Его угрозы принимали все более отчетливые очертания:
— Это письмо можно понять довольно странным образом.
— Для рабочих искусство редко бывает доступным, — отвечал Уайльд.
— Один человек предложил мне за него шестьдесят фунтов, — не унимался Аллен.
— Если хотите моего совета, то немедленно разыщите этого человека и продайте ему письмо. Даже мне никогда не предлагали столько денег за столь короткое произведение в прозе!
Бедняга Аллен, окончательно сбитый с толку, принялся хныкать; Уайльд выставил его за дверь и дал на прощанье десять шиллингов.
На какое-то время скандал утих, и Уайльд не испытывал по этому поводу ни малейшего волнения. Напротив, он заявил еще одному молодому человеку, пришедшему к нему с той же целью: «Сдается мне, что вы ведете чудесную жизнь маленького развратника».
Анна де Бремонт первой заметила трещины в его светской маске. Она встретилась с Уайльдом непосредственно перед премьерой на банкете, состоявшемся в писательском обществе — обществе взаимного восхищения, — и записала: «Блуждающий взгляд, осунувшееся лицо, на котором написано не поддающееся определению выражение то ли усталости, то ли странной тревоги. Да, он, как обычно, был безупречно одет, и его поведение, как никогда, отличалось легкостью и высокомерием истинного денди… Мне показалось, что передо мной стоит мертвец — я не могла ни увидеть, ни почувствовать его душу в затуманенном и лишенном выражения взгляде, прячущемся за отяжелевшими от усталости и скуки веками».
В среду, 19 апреля 1893 года, состоялась премьера «Женщины, не стоящей внимания» с Бирбомом Три, миссис Бернард Бир, Фредом Терри… Рядом с Уайльдом в ложе сидели Бози, Махэйффи и вновь появившийся Пьер Луис. Пьеса стала очередным триумфом, и зрительный зал приветствовал ее громом аплодисментов, хотя кое-кто из зрителей пытался свистеть. Уайльд проявил осторожность, и когда публика в зале начала требовать автора, он поднялся в своей ложе и объявил: «Уважаемые дамы и господа, я должен с грустью сообщить вам, что господина Оскара Уайльда нет в зале». И хотя ему удалось вновь вызвать смех и аплодисменты, этой выходкой он отнюдь не смягчил раздражения критиков, а «Панч» в очередной раз разразился язвительной статьей. В целом пресса, скрепя сердце, вынуждена была признать заслуги автора. Общий тон задавал «Уорлд» от 23 апреля: «Отнюдь не остроумие Оскара Уайльда и еще менее умение ловко манипулировать парадоксами заставляют меня требовать, чтобы ему было отведено особое место среди современных драматургов. Прежде всего я имею в виду его ум, оригинальность взглядов, совершенство стиля, а главное, драматическую силу его вдохновения. Я без малейшего колебания заявляю, что сцена между лордом Иллингуортом и миссис Арбетнот в конце второго акта может считаться самой сильной и самой умной сценой современного английского театрального искусства». Договор с Бирбомом Три предусматривал отчисление автору 8 % от чистой суммы средних сборов; поскольку «Хеймаркет» ежевечерне объявлял аншлаг, можно предположить, что, поздравив актеров, Уайльд не преминул выразить досаду в адрес Три, отказавшегося ангажировать его юного протеже Сидни Барраклафа. После премьеры вся компания с «чудо-мальчиком» во главе отправилась на ужин к «Уиллису». Даже Пьер Луис, излечившийся, по всей видимости, от своих предубеждений, а может, махнувший на них рукой, принял участие в этом празднестве, во время которого Уайльд блистал, как никогда. Решив свои дела, связанные с военной службой, Луис тут же приехал в Лондон и вновь принимал все приглашения Уайльда. К примеру, 21 апреля за ужином он сидел рядом с Джоном Греем, которому позже посвятил свое стихотворение «Прерия». И тем не менее в письме к брату он вновь вспоминал прежние тревоги: «Мне не жаль уезжать из Лондона, я лишь немного сожалею о пьесе „Женщина, не стоящая внимания“. Я написал о ней много хорошего в одной плохой статье, которая должна выйти в субботу, если редакция согласится ее поместить, в чем я сильно сомневаюсь. Я отложил на день свой отъезд, чтобы увидеться сегодня или завтра с одной очень интересной актрисой, миссис Бернард Бир, о которой я расскажу тебе поподробнее и которая играет заглавную роль в пьесе Уайльда. Лондон чудесен, но я оказался в обществе, которое несколько смущает меня, и я обязательно расскажу тебе, чем именно».
С другой стороны, он подтверждал свою близость с Уайльдом, по крайней мере в области эстетики, оставив автограф на листке розовой бумаги, на котором рукой Уайльда было написано: «Нельзя смотреть ни на предметы, ни на людей. Надо смотреть только в зеркало, поскольку зеркало показывает нам одни лишь маски»; дальше добавлено рукой Луиса: «Людям необходимо показывать красоту». К тому же не следует забывать и о стихотворении «Гиацинт», которое он опубликовал в апреле в журнале Дугласа. Тем не менее создается впечатление, что размолвка, возникшая между ними в феврале по поводу посвящения «Саломеи», была забыта. Уайльд послал тогда Луису письмо, причем на этот раз оно было написано по-английски: «Мой дорогой Пьер, неужели это все, что ты можешь мне сказать в ответ на то, что я выбрал именно тебя среди всех моих друзей и посвятил тебе „Саломею“? Я не в силах выразить, насколько мне горько. Все, кому я просто послал экземпляр своей пьесы, прислали мне прелестные письма, украшенные деликатными похвалами. И только от тебя — того, чье имя я начертал золотыми и алыми буквами, — ни звука… Раньше я не задумывался над тем, что дружба может быть более хрупкой, нежели любовь».
И все же, если не принимать во внимание развязное и вызывающе поведение Уайльда, позы, свойственные ему в этот период, все разрастающиеся скандальные слухи по поводу его отношений с Бози, которому он только что подарил запонки — четыре селенита в виде сердечек, украшенных бриллиантами и рубинами, некоторые фразы из пьесы, которая значилась теперь на театральной афише, обретали гораздо более глубокое звучание, чем это могло показаться на первый взгляд. Прежде всего это касается лорда Иллингуорта (точной копии лорда Генри Уоттона), явившегося выразителем ироничных, а где-то и горьких чувств автора:
«Надо сочувствовать радости, красоте, живой жизни… Молодость Америки — самая старая из ее традиций… Хорошо известно, что такое распространенное в публике представление о здоровье; это английский помещик, во весь опор скачущий за лисицей. Невыразимое, преследующее неудобоваримое… Ничто не имеет значения, кроме страсти… Двадцать лет любви делают из женщины развалину. Зато двадцать лет брака превращают ее в нечто подобное общественному зданию».
Что же касается героини, миссис Арбетнот, этой женщины, не стоящей внимания, соблазненной и покинутой, жалкой матери незаконнорожденного сына, то именно она выражает тревогу, которая уже начинает проступать у Уайльда сквозь маску благополучия:
«Только любовь может сохранить человеку жизнь… Мое прошлое было всегда со мной… Ведь это мой позор соединил нас так неразрывно. Это мой позор сделал тебя для меня еще дороже… Ты плод моего позора, так останься же им навсегда!»
Эти слова появляются, как вспышки, которым, быть может, и сам Уайльд не придавал большого значения, однако и ему предстояло произнести точно такие же слова, когда, присмотревшись к Бози, он смутно почувствовал приближение надвигающейся катастрофы, в которую его беспощадно затягивали его «пантеры», его бесчестье и причина его будущей катастрофы.
Оставив Уайльда наслаждаться триумфом своей пьесы, Бози вернулся в Оксфорд, чтобы закончить последний учебный год. Здесь он уделил большое внимание эстетизму и любовным отношениям. Стараясь как можно чаще бывать в Лондоне, он уже не оставлял Уайльда. Их можно было встретить всюду, где имело смысл бывать: в тильбюри на Аскоте, в вечерних костюмах у Керзонов, в охотничьих нарядах в загородном имении у какого-нибудь богатого бизнесмена. Несмотря на сомнительную репутацию, Дугласу нигде не отказывали в приеме; его юность, красота, чувство прекрасного и дружба с Уайльдом создали вокруг него некий ореол. Выросший в богатой семье, он оставался рабом своих прихотей, которые удовлетворял теперь Уайльд, при этом он становился все более требовательным, нетерпимым и жадным до роскоши. Известный художественный критик, историк и почетный профессор Оксфорда Д.-А. Саймонс влюбился в Дугласа и начал ревновать его к Уайльду, чей «Портрет Дориана Грея» ему никогда не нравился. Он писал Дугласу полные чувств письма, на которые тот отвечал с подчеркнутой небрежностью; Бози предпочитал золоченый шлейф Уайльда, разбогатевшего благодаря доходам от своих комедий. Все, кто имел хоть какой-то вес в обществе, с восторгом повторяли блестящие фразы из его пьес, считая своим долгом послать ему приглашение на очередной прием. Сам же Уайльд, подобно Нерону, превратился в своего рода монарха, которого постоянно сопровождала свита, распевая ему хвалебные гимны, восхищаясь его афоризмами и не стесняясь жить за его счет.
Дом Тейлора на Литтл Колледж-стрит стал одним из наиболее частых ночных прибежищ Уайльда, который испытывал сладострастную дрожь от опасных соприкосновений с юными постояльцами этого заведения. Сие не прошло мимо внимания Фрэнка Харриса, Бернарда Шоу и… маркиза, который ждал своего часа: «По мере того, как росло его состояние, он становился все более высокомерным, и та ненависть, которая обнаружилась весной 1895 года и сопровождала его до конца жизни, стала, в известном смысле, результатом трехлетнего периода, отделяющего „Веер леди Уиндермир“ от пьесы „Как важно быть серьезным“, в течение которого общество валялось у его ног и втайне завидовало его успеху, будучи не в силах простить Оскару стремительный взлет и вместе с тем вызывающую независимость духа и поведения». Его доходы стали значительными — примерно восемь тысяч фунтов в год — и он проводил большую часть времени в «Савое» или «Альбермэйле»; при этом он постоянно ездил то в Париж с Бози или с кем-нибудь другим, то в Лондон.
Он все еще продолжал покорять своих слушателей, в частности, это относится к супруге богатого торговца бриллиантами Аде Леверсон, которой Уайльд дал прозвище «Сфинкс». Он познакомился с ней на вечере у Освальда Кроуфорда. «Когда я познакомилась с ним, — вспоминала она, — старые легенды, относящиеся еще к его ученическим годам, продолжали окутывать Оскара Уайльда своей дымкой, и я была немало удивлена, встретив его не бледным и томным юношей в коротких штанах и с лилией в руке, о которой говорили, будто ее запах придавал ему жизненные силы. Он уже давно оставил свои эстетские позы 80-х годов… той волшебной эпохи подсолнухов и павлиньих перьев, художественных гобеленов и японских вееров».
Оскар встречался с Адой всякий раз, когда оказывался в Лондоне, и у него никогда не было и уже не будет более верного друга. Он появлялся с ней у князя Пьера Трубецкого, где познакомился с актером Уиллардом, а главное, с удивительной Иветт Гильбер. Вошедшая в историю как исполнительница народных песен и увековеченная кистью Тулуз-Лотрека, эта женщина экстравагантного внешнего вида с рыжими волосами и бледным лицом отличалась изрядным чувством юмора. Все гости в доме у принца с нетерпением ожидали этой встречи. Уайльд приехал с опозданием; вперед с ироничной улыбкой на губах вышла Иветт Гильбер, прекрасно понимая, насколько эффектно она выглядит:
— Не правда ли, мсье Уайльд, я самая уродливая женщина Франции?
На какую-то долю секунды Уайльд озадаченно замер, склонившись над протянутой рукой, и ответил с неизменной обходительностью: «Всего мира, мадам, всего мира!» — вызвав шепот восхищения у окружающих и мгновенно завоевав симпатию Иветт Гильбер5.
На лето Оскар снимал дачу в Горинге на берегу Темзы. Он занимался тем, что готовил издание «Веера леди Уиндермир», придумывая сюжет для новой пьесы и отдавшись во власть своей природной лени.
Он совершил короткую поездку в Джерси на представление «Женщины, не стоящей внимания» и ожидал приезда Бози, который покинул Оксфорд, не получив диплома. После приезда Бози Констанс немедленно увезла из Горинга обоих сыновей; оставшись вдвоем, любовники решили провести время с пользой для дела. Уайльд попросил Бози перевести «Саломею» на английский, а сам принялся за наброски «Идеального мужа». Они наняли молодого слугу, правда очень некрасивого. Между тем тучи начинали сгущаться, несмотря на идиллические декорации, купания и солнечные ванны, которые Дуглас принимал обнаженным, шокируя деревенского пастора, в ужасе спасавшегося бегством при виде подобного зрелища и не желавшего слушать объяснения, о сценах из греческой древности. Вскоре опять начались ссоры. Бози обвинял Уайльда в том, что тот зачастил в заведение Тейлора, Уайльд был не в силах больше выносить приступы ярости, которые становились у Бози все сильнее. Бози бросил работу над переводом, вернулся в Лондон и отказался возвращаться в Горинг. Крайне огорченный Уайльд написал ему: «Я остаюсь в Горинге, чтобы попытаться навести порядок. Даже не знаю, что мне делать с этим домом — остаться тут или уехать — да еще и слуги доставляют немало забот. Я постарался связаться с Лэйном, но он в Париже с Ротенстайном. Я надеюсь, что ты очень скоро получишь пробные оттиски». На самом деле изданием перевода Бози с иллюстрациями Обри Бёрдслея должен был заниматься Джон Лэйн, о котором Уайльд был не слишком высокого мнения. Создавалось впечатление, что судьба определенно ополчилась против принцессы Саломеи. Издатель бесследно исчез, перевод Дугласа не нравился Уайльду, а кроме того, он терпеть не мог Обри Бёрдслея, чьи рисунки казались ему неприличными, «жестокими и злыми, так похожими на самого любезного беднягу Обри, чье лицо напоминает серебряный топорик с волосами цвета зеленой травы». Тем не менее Уайльд предложил ему отредактировать перевод Дугласа, чем вызвал такую вспышку ярости Бози, жившего на полном содержании у Росса, что Уайльд вынужден был прибегнуть к крайним мерам и написать леди Куинсберри: «Вы неоднократно задавали мне вопросы по поводу Бози. Позвольте дать Вам сегодня несколько ответов. Мне кажется, что нынешнее состояние здоровья Бози внушает явные опасения. Он страдает бессонницей, расстройством нервной системы, почти истерией… В городе он не занимается абсолютно ничем. В августе он сделал перевод моей французской пьесы и с тех пор не занимался никаким интеллектуальным трудом… Его жизнь кажется мне бесцельной, несчастной и абсурдной… По-моему, Вам следовало бы принять меры к тому, чтобы отправить его на четыре-пять месяцев за границу». Бози отправили в Каир к генеральному консулу лорду Кромеру. Сам Уайльд уехал с Фредом Аткинсом в Динард; публикация «Саломеи» застопорилась, и Бёрдслей писал Робби: «Я надеюсь, Вы слышали обо всей этой шумихе вокруг „Саломеи“. Могу только сказать Вам, что я был буквально завален перепиской с Лэйном, а также Оскаром и К°. В течение целой недели число почтальонов и различных посыльных, звонивших в мою дверь, достигло просто скандальных размеров. Я совершенно ничего не знаю о том, как в действительности обстоят дела… Кстати, Бози уезжает в Египет; понятия не имею, в каком качестве; думаю, что-то связанное с дипломатией. А какие у Вас новости от Оскара? Они оба совершенно ужасные люди».
Вернувшись из Динарда, Уайльд узнал, что в письме, адресованном одному своему старому товарищу по Оксфорду, Бози Дуглас встал на его защиту: «Вместе с тем, я считаю, что он обладает удивительным воображением, счастливым даром экспрессии, врожденным чувством фразы и огромным драматическим инстинктом (я имею в виду не его пьесы, а „Дориана Грея“ и „Гранатовый домик“)… Он самый благородный в мире друг, он единственный из всех моих знакомых, кому достанет смелости положить руку на плечо бывшего заключенного и пройтись с ним так по Пиккадилли». Этого было достаточно для того, чтобы Уайльд, который страдал в разлуке, написал Бози: «Я рад узнать, что мы снова друзья и что наша любовь прошла сквозь тень и сумрак безразличия и печали и вышла увенчанная розами, как это было прежде. Давай же будем бесконечно дорожить друг другом, как мы всегда делали это».
Вместе с тем у Уайльда накопилось немало причин для беспокойства и тревог. Заведение Тейлора попало под наблюдение, полиция проводила обыски во всех помещениях и внимательно следила за передвижениями жильцов и гостей. Из предосторожности Уайльд покинул отель «Альбермэйл», где его слишком хорошо знали, и снял однокомнатную квартиру в доме 10/11 на Сент-Джеймс-плейс, где рассчитывал поработать над пьесой «Идеальный муж», а также вновь вернуться к корректуре «Сфинкса», произведения, которое, безусловно, доставило ему больше всего хлопот, так как его издание все продолжало откладываться. Здесь он узнал, что Бози, который бежал во Францию, а затем в Бельгию в обществе галантного дружка, подвергся угрозам шантажа со стороны своего юного приятеля. Уайльд в очередной раз вынужден был вмешаться и срочно выехал на континент, забыв о работе и подвергнув очередному испытанию свою и без того небезоблачную репутацию. Он привез Бози в Лондон, в то время как того ждали в Константинополе после остановки в Париже. Теперь, когда Бози поселился в квартире Уайльда, о спокойствии снова можно было забыть, и Уайльд писал: «Каждое утро ровно в половине двенадцатого я приезжал на Сент-Джеймс-плейс, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, хотя семья моя была на редкость тихой и спокойной. Но я напрасно старался. В двенадцать часов подъезжал твой экипаж, и ты сидел до половины второго, болтая и беспрерывно куря, пока не подходило время везти тебя обедать в „Кафе Рояль“ или в „Беркли“. Ленч с обычными возлияниями затягивался, как правило, до половины четвертого. Ты уезжал на час в „Уайтс-клуб“. К чаю ты являлся снова и сидел, пока не наступало время одеваться к ужину. Ты ужинал со мной либо в „Савое“, либо на Тайт-стрит. И расставались мы обычно далеко за полночь — полагалось завершить столь увлекательный день поздним ужином у „Уиллиса“». Таким образом, требовательность Бози, которой Уайльд был не в силах сопротивляться, начинала стеснять драматурга, а это приводило к неизбежным размолвкам между мужчинами, которые тем не менее не могли обойтись один без другого. Бози компрометировал себя с другими «пантерами», демонстративно появлялся повсюду вместе с Уайльдом, дразнил отца, доставлял волнения матери; он потерял должность в Константинополе еще до того, как занял ее, и стал тем самым «плодом моего позора», которого Оскар вывел в «Женщине, не стоящей внимания», как прежде стал Дорианом Греем, которого Уайльд создал еще до знакомства с ним.
После серьезного внушения, полученного от матери, Бози вернулся в Каир, устроив Оскару очередную сцену. Здесь он снова компрометировал Уайльда, откровенничая с Робертом Хиченсом, который позже использовал рассказы Дугласа в «Зеленой гвоздике», литературной шутке, которую почему-то приписали Уайльду.
Лорд Альфред Дуглас, как всегда непредсказуемый, импульсивный, более всего влюбленный во время разлуки, написал предлинное письмо матери, которая мечтала о его окончательном разрыве с Уайльдом: «Прежде всего, в тот вечер вы сказали мне, что я даже не сделал попытки убедить вас в том, что Оскар достойный человек. В ответ я спросил вас, а помните ли вы, чтобы я когда-нибудь пытался убедить вас, что кто-либо из моих друзей является достойным человеком; мне кажется, я всегда был тверд в своем нежелании делить людей на плохих и хороших. В предисловии к „Дориану Грею“ Оскар пишет: нет книг нравственных или безнравственных, а есть книги хорошо или плохо написанные. А теперь, если вы перенесете это правило на людей, оно сохранит свой смысл, и мой подход к людям именно таков. Человек не может быть нравственным или безнравственным, человек бывает хорошо или плохо скроен, вот и все. Это означает, что у него либо есть характер, стиль, изысканность, свое лицо, либо эти качества отсутствуют… Вы сами прекрасно знаете, что не судите людей по этим критериям, так что вы не можете требовать этого и от меня… Вы считаете, что именно Оскар разрушил мою душу. Так вот, я могу ответить, что до знакомства с ним у меня вообще не было души; он научил меня оценивать веши в зависимости от их значимости, научил отличать прекрасное от уродливого и вульгарного… А теперь позвольте задать вам вопрос: а что вы можете предложить мне взамен этого человека, куда я, по-вашему, должен отправиться во имя духовного обогащения моей личности? Кто станет питать мою душу сладкой горечью меда? Кто вновь сделает меня счастливым в минуты грусти, отчаяния или плохого самочувствия? Кто иной сумеет унести меня одной лишь силой своего сияющего золотом слова далеко от угрюмого мира в воображаемую страну чудес, остроумия, парадоксов и красоты? Я безумно влюблен в него, а он в меня».
Это и следующие за ним письма проливают совершенно особый свет на отношения Бози и Уайльда и демонстрируют непреодолимое влечение, которое испытывал юный лорд к знаменитому литератору, подтверждая вместе с тем, что узы, объединявшие двух мужчин, носили прежде всего интеллектуальный характер. В еще одном письме, которое он через несколько дней снова написал матери, продолжавшей упорствовать в своем мнении о вредном влиянии Уайльда, Бози сделал интересный анализ «Дориана Грея», который стоит процитировать даже в большей мере, чем предыдущее письмо, поскольку здесь содержится откровенное признание в любви, которое под новым углом зрения высвечивает неоднозначную личность юного лорда Дугласа: «Лорд Генри учит Дориана Грея, что он должен осуществить все, что в его силах, и придать форму любой страсти, любой идее, приходящей на ум, с тем чтобы превратить свою жизнь в произведение искусства. Он как-то говорит ему: Я так счастлив, что в своей жизни вы занимались только тем, что жили, я так счастлив, что вас никогда не посещала мысль написать книгу или сочинить песню, вы сделали свою жизнь произведением искусства… Теперь же, если вы остаетесь все еще настолько слепы и чудовищно несправедливы, чтобы искать аналогию между поведением О. У. в отношении меня и поведением лорда Г. в отношении Дориана Грея, то, думаю, любые слова, которые я мог бы вам сказать, были бы абсолютно бесполезны. Оба случая не имеют ни малейшего сходства… Если рассматривать этот вопрос наиболее искренне и правдиво, наверное, можно было бы сказать, что лорд Генри — восковое изображение того, кем мог бы стать Оскар, не будь у него столько энтузиазма, гуманности, щедрости и очаровательной мягкости характера… Что касается того, что вы называете чудачествами и особой моралью, то я настолько же далек от мысли о том, что меня самого наделяют исключительно такими характеристиками, насколько знаю, что эти качества были присущи почти всем великим умам, перед которыми я преклоняюсь, как прошлого, так и нашего времени». Такова была сила страсти, соединившей Оскара и Бози, и даже почтение, которое Дуглас испытывал по отношению к собственной матери, не в силах было умерить ее безумия.
В феврале 1894 года вышел перевод «Саломеи» с посвящением лорду Альфреду Дугласу. Обложка выглядела ужасно, и Уайльд пришел в отчаяние от того, что роковая судьба все не оставляла в покое его принцессу. Он вновь был разлучен с Бози, у него снова не было денег, «Саломея» принесла сплошные разочарования, а последнюю, с таким трудом законченную пьесу отказались ставить два режиссера. Все разъяснилось внезапно, с прибытием по-прежнему вызывающе яркого Бози, которого Уайльд поехал встречать в Брайтон, где друзья провели вдвоем несколько счастливых дней. Вернувшись в Лондон, Уайльд загорелся страстью к молодой актрисе Эме Лаутер, которой он писал: «Эме, Эме, если бы Вы были мальчиком. Вы разбили бы мое сердце». Дальше уже идут стихи:
Ваши зеленые глаза, как темные озера,
По которым прокатилось солнце,
Оставив в них свое золотое отражение.
В нем ощущалось какое-то разочарование, которым Уайльд поделился с совсем юным актером Филиппом Хьютоном, новым завсегдатаем дома на Сент-Джеймс-плейс: «В обществе я абсолютно намеренно стараюсь казаться только дилетантом или денди — я считаю неразумным демонстрировать свои чувства окружающим, а прятаться за строгими манерами пытаются одни лишь неосторожные люди; мудрец изберет для этого безумие изысканной фривольности фантазий и беспечности. В столь вульгарном мире, как наш, каждому необходимо носить маску».
Ему самому это было необходимо более, чем кому-либо другому: опасные связи Уайльда с «пантерами» с Литтл Колледж-стрит, вызывающие отношения с Дугласом давали пищу для постоянных пересудов и скандалов. Возмущенная до крайности мать Бози решила рассказать обо всем Констанс, которая и без того уже начала задаваться вопросами по поводу продолжительных отлучек Оскара, его таинственных поездок в Париж, Брайтон, Брюссель, по поводу этой безумной дружбы, о которой поведала ей леди Куинсберри.
Даже маркиз, увязший в скандале вокруг своего второго развода, тем не менее решил вмешаться. Он в очередной раз встретился с Уайльдом и Бози в «Кафе Рояль». Маркиз уселся за их столик и разделил с ними трапезу, хотя его не переставало ужасать их обращение друг с другом и он не в силах был выбросить из головы нелицеприятные намеки на их взаимоотношения, которые делали ему люди его круга. Непревзойденное обаяние Уайльда на этот раз оказалось бессильным. Какое-то время маркиз оставался в нерешительности, опасаясь новых неприятностей; ему на память пришел недавний скандал, в котором оказались замешаны его старший сын и лорд Роузбери, к тому же он не мог сбросить со счетов и экстравагантность собственной жизни.
В конце концов 1 апреля 1894 года он написал пролог той пьесы, которая ровно через год была разыграна в зале английского суда:
«Альфред. Мне исключительно больно от того, что я вынужден писать тебе в такой жесткой форме… Во-первых, правильно ли я понимаю, что после того, как ты, к своему стыду, покинул Оксфорд подобным образом, как мне это объяснил твой воспитатель, ты собираешься теперь наслаждаться бездельем и праздностью? Во-вторых — тут я касаюсь самого болезненного пункта моего письма — речь пойдет о твоей близости с этим типом, Уайльдом. Это нужно прекратить, иначе я от тебя отрекусь и лишу средств к существованию. Я не собираюсь анализировать эту близость и ни в чем тебя не обвиняю; но, на мой взгляд, даже делать вид, что ты ненормален, столь же непристойно, сколь и быть таковым на самом деле. Я своими собственными глазами видел вас вдвоем — как бесстыдно и отталкивающе вы выказывали свою близость! В жизни не видел ничего более мерзкого, чем выражение ваших лиц. Неудивительно, что о вас столько говорят. Кроме того, мне стало известно из надежного источника — что, впрочем, может быть, и неверно, — будто его жена добивается развода, обвиняя его в содомии и прочем разврате… Если это подозрение имеет какие-то основания и если о нем пойдет молва, я буду вправе пристрелить его при первой же встрече».
После этого письма Бози буквально прорвало: он отправил отцу ответную телеграмму, в которой специально подобрал выражения («Как же вы похожи на жалкого старикашку!») с таким расчетом, чтобы довести маркиза до бешенства. Таким образом, совершенно намеренно и не сказав ни слова Уайльду, он спровоцировал отца, чей дикий нрав был ему прекрасно известен, подвергнув как себя, так и Уайльда ярости, которая теперь не знала границ, о чем свидетельствует второе письмо отца к сыну: «…Твоим единственным извинением может быть только то, что ты сошел с ума. Кое-кто из Оксфорда сообщил мне, что там тебя считали ненормальным. Если я еще хоть раз застану тебя с этим человеком, я устрою такой скандал, какого ты даже и представить себе не можешь». Бози, безусловно, был не в себе, так как даже теперь он оказался не в состоянии оценить серьезность угроз, нацеленных против того, кого называл своим самым дорогим другом; он был безумен потому, что провоцировал все еще окруженного боксерами «багрового маркиза», который без колебания угрожал кнутом лорду Роузбери, оскорбил Гладстона и подрался с Перси Дугласом; наконец, он был безумен потому, что повлек за собой к неизбежной катастрофе человека, который пылал к нему столь же абсолютной, сколь и странной любовью.
В ситуацию снова вмешалась мать Бози, которая умоляла расстаться с Уайльдом и уехать во Флоренцию, где, как она понимала, Уайльд, оставшийся без денег и продолжавший искать театр для постановки пьесы, не смог бы к нему присоединиться. Ей удалось убедить Дугласа, и в апреле 1894 года он отбыл в Италию.
Уайльд остался в Лондоне, неотступно думая о Бози; он писал полные бреда письма «драгоценному золотому мальчику», чьи светлые волосы оставались единственным талисманом, который мог помешать ему сгинуть в «пурпурных долинах отчаяния». Известие от друга только усиливало его тоску: «Дорогой мой мальчик, только что пришла телеграмма от тебя; было радостью получить ее, но я так скучаю по тебе. Веселый, золотистый и грациозный юноша уехал…». Целую неделю Уайльд боролся с собой и с поэтическими воспоминаниями о Бози, заставлявшими его забыть о гневе, ссорах, о безумии совместного существования, после чего все же помчался к нему.
За несколько месяцев до этого Андре Жид сел на корабль, отправлявшийся в Африку, сохраняя в памяти ослепительное воспоминание о Уайльде, о чьих нравах он поведал Пьеру Луису, сдерживая дрожь тайных желаний, которые с детства смутно беспокоили его и которые влекли его теперь к берегам той самой Африки, где так девственна и чиста природа. «Когда в октябре 1893 года я отправился в Алжир, я вовсе не стремился к новым землям, меня манило это, то самое золотое руно возбудило мой порыв». Этим было стремление развить собственную индивидуальность, уникальность, осуществить то, чему какие-то два года тому назад учил его Уайльд, когда сказал Жиду: «Я хочу научить вас лгать, чтобы ваши губы стали прекрасными и одновременно искривленными, как у античной маски». На обратном пути он проезжал через Флоренцию, весь во власти тревоги и разочарования, которые оставили в его душе отношения с юным алжирцем Мериемом. Здесь он встретил Уайльда и Дугласа и испытал чувство вины с оттенком возрождающегося восхищения. «Как ты думаешь, кого я здесь встретил? — писал он матери. — Оскара Уайльда. Он постарел и подурнел, но остался все таким же блестящим рассказчиком, наверное, немного, как мне кажется, похожим на Бодлера, только менее острым и более обаятельным. Ему оставалось провести здесь только один день, а так как он уезжал из квартиры, которую снял на месяц, а пробыл в ней только две недели, он любезно предложил мне поселиться здесь вместо него». Позже, уже в июле Андре Жид более подробно написал об этом из Фьезоле Полю Валери: «Кстати, по поводу Лондона, как раз во Флоренции я встретил одного из редких знакомых мне англичан: Оскара Уайльда, который, как мне показалось, был не очень-то рад встрече, так как считал, что находится там инкогнито. Рядом с ним был другой улыбающийся поэт более молодого поколения. Я выпил с ними две рюмки вермута и услышал четыре истории. Он уезжал на следующий день, а было это четыре недели тому назад». Стремясь, как и Уайльд, сохранить эти события в тайне, он добавил: «Я не говорил тебе об этом раньше, потому что ты был в Париже и наверняка пересказал бы эту историю всем остальным! Но даже сейчас, когда тебе будет легче хранить молчание, я все же прошу тебя никому не рассказывать об этом».
Таким образом, в июне Оскар Уайльд снова вернулся в Лондон; он вновь был на Тайт-стрит, где его ждали дети, уютный дом, за которым следила Констанс, унаследовавшая от тетушек восемь с половиной тысяч фунтов. Уайльд поселился здесь, так как у него не было денег, чтобы отправиться в гостиницу или сохранить за собой квартирку на Сент-Джеймс-плейс, но еще также и потому, что он был рад возможности поработать вдали от Бози и соблазнов Литтл Колледж-стрит. 11 июня в издательстве Элкина Мэтьюза и Джона Лэйна вышел «Сфинкс» с иллюстрациями Чарльза Рикеттса и с посвящением Марселю Швобу: «дружески и восхищенно». Книга получила хвалебную критику, а обзор во «Всякой всячине» великолепно отразил чувство величия и приобщения к таинству, которое возникает при чтении этой длинной поэмы, на которую у Уайльда ушло десять лет: «Все чудовища зала Древнего Египта Британского Музея воскресают в этих волнующих, порой оскорбительных, но несмотря ни на что величественных и удивительных строках… Будет справедливым добавить, что язык поэта не поддается сравнению, а стиль его по-прежнему блистателен». Эта красивая поэма содержит множество откровений о фантазиях, которые тревожили существование поэта, становившееся с каждым днем все более опасным. Когда он спрашивал загадочного Сфинкса:
Твои любовники… за счастье
Владеть тобой дрались они?
Кто проводил с тобой все дни?
Кто был сосудом сладострастья?6,
то знал ответ, отправляясь на тайные встречи с молодыми людьми, составлявшими его свиту и являвшимися объектом «тайных и постыдных желаний», в которых он признался в поэме. Только Уайльд периода 1890–1894 годов способен написать: «Ты побуждаешь с жаждой чуда все мысли скотские мои. Ты называешь веру нищей, ты вносишь чувственность в мой дом».
Какие же картины проходили, сменяя друг друга, перед растерянным взором автора «Саломеи» и «Сфинкса»? Он думал о Бози, о своей жизни, полной возбуждения, опасностей и побед, а главное, катастроф. Сидя в задумчивости за рабочим столом, он никак не мог написать слово «Конец» на последней странице «Идеального мужа», хоть и был погружен в мысли о новой пьесе и новых победах.
Из задумчивости его вывел звонок, раздавшийся в прихожей дома 16 по Тайт-стрит. Слуга объявил: «Маркиз Куинсберри!» Он пришел потребовать немедленного прекращения отношений между Уайльдом и Бози. Глазам перепуганного слуги предстал поединок храбрости буржуа, присущей Уайльду, и свирепой грубости благородного потомка клана Дугласов. Куинсберри поставил Уайльду в вину его поведение, бесстыдство и слухи о предстоящем разводе. Он вопил, что знает, как их обоих, то есть Дугласа и Уайльда, выставили из ресторана. Что он снял на Пиккадилли меблированную комнату для Альфреда. Что Бози стал объектом шантажа из-за письма, написанного Оскаром. Что везде, где бы ни появлялись, они вызывают скандал… Обвинения следовали одно за другим, бешенство маркиза достигло апогея. Уайльд бесстрастно выслушал его, затем без особых церемоний выпроводил за дверь и попросил никогда больше не переступать порог его дома. Так прошло первое столкновение между двумя соперниками, которое завершилось не обострением отношений между развратным и сумасшедшим маркизом и модным писателем, а усилением напряженности между отцом и сыном, которая достигла пароксизма безумия, вплоть до покушения на убийство, ибо Бози даже раздобыл пистолет, чтобы расстрелять отца или его боксеров, которые будто бы собирались на него напасть.
В действительности после дерзкого ответа, полученного Куинсберри в апреле, маркиз пригрозил сыну кнутом (по старой барской привычке) и пустил по его следам своих «телохранителей». Он потребовал у хозяев кафе и ресторанов, где часто бывали Уайльд и Бози, чтобы те не смели больше пускать их в свои заведения. 6 июля он написал своему бывшему тестю Альфреду Монтгомери: «Ваша дочь сама подстрекает моего сына к тому, чтобы бросить мне вызов». Он постарался заручиться свидетельством директора гостиницы «Савой» о том, что оба мужчины останавливались здесь вдвоем, и заявил во всеуслышание, что Уайльд трус и что он будет стрелять по нему, «как по видимой цели», что Бози не сын ему больше и что вся эта канитель напоминает ему историю с Роузбери. Бешеная злоба заставила его произнести крайне опрометчивые слова в адрес министра иностранных дел Роузбери, премьер-министра Гладстона и даже самой королевы: «Когда-нибудь мир узнает, что дело не в том, что Роузбери оскорбил меня, солгав королеве, а в том, что это делает ее такой же мошенницей, как Гладстон и он сам».
Теперь уже не выдержал Бози: «Я совершеннолетний и сам себе хозяин. Вы унизили меня по меньшей мере дюжину раз… Если бы О. У. решил подать на вас в суд за диффамацию, вы получили бы семь лет каторжных работ». Фрэнк Харрис, к которому Уайльд обратился за советом, понял, что Бози искал способ отомстить отцу, которого люто ненавидел, толкая Уайльда к тому, чтобы подать на него в суд. Поскольку, благодаря откровениям портье из «Савоя», ему стали известны детали любовных похождений Уайльда, он отдавал себе отчет в опасности затевать такую процедуру. И наконец, поскольку Харрис нашел пугающими письма Куинсберри, чей нрав ему был хорошо известен, он, в свою очередь, тоже стал настаивать на прекращении этих отношений.
Тем не менее в июле ссора несколько утихла, поскольку маркиз, кажется, испугался намерений сына, так как знал, что тот способен на все. Жизнь вернулась в прежнее русло: приемы у Леверсонов, ужины в «Кеттнерс» или у «Уиллиса». Уайльд отправился в театр на пьесу Дюма-сына «Жена Клода», главным образом чтобы поцеловать Сару Бернар и пожать руку исполнителю главной мужской роли Люсьену Гитри. Он попросил у Александера аванс в размере ста пятидесяти фунтов за свою новую пьесу «Как важно быть серьезным» и написал Дугласу, который вновь уехал в Оксфорд, несколько безутешных писем: «Я не могу без тебя жить. Ты мне так дорог, ты такой чудесный. Думаю только о тебе целыми днями, мне так не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта, удивительного своим внезапным взлетом… и прежде всего тебя самого». Уайльд обратился к модной гадалке, чьи предсказания («дальняя дорога, блестящий успех, затем стена, а за стеной — пустота!») дали ему повод написать Бози: «Мне кажется, что Смерть и Любовь тянут ко мне свои руки по мере того, как я шагаю по жизни вперед: я все время размышляю только об этих двух вещах, а их крылья угрожают мне своей тенью». Он получил сто пятьдесят фунтов, и, дабы поработать и одновременно скрыться от кредиторов, поехал в Уортинг, где Констанс арендовала дом на берегу моря. Бегство оказалось недостаточно поспешным, так как всего через несколько недель маркиз вновь напал на след своего сына и Уайльда.
Сразу по прибытии в курортный городок на юге Англии, где он с удовольствием вернулся к радостям семейной жизни, Уайльд принялся за работу: он начал писать свою последнюю пьесу «Как важно быть серьезным», правил корректуру «Женщины, не стоящей внимания», которая в октябре вышла с посвящением графине де Грей. Он был раздосадован осложнениями, которыми грозило ему разделение Джона Лэйна и Элкина Мэтьюза, бывших до сих пор издателями всех его произведений; такое разделение рисковало поставить под угрозу уже объявленную публикацию «Портрета мистера У. X.».
Тем не менее он наслаждался пляжем, играл с детьми и не переставал тосковать по Бози. Несмотря на угрозы Куинсберри, Уайльд пригласил его приехать. В начале августа Бози приехал и привез тревожное известие: арест Тейлора и его восемнадцати «воспитанников», в числе которых двое травести. Тучи начинали стремительно сгущаться, однако Уайльда это, похоже, ничуть не заботило. Он устраивал продолжительные морские прогулки вместе с Бози и его дружком Альфонсо, в то время как дети оставались играть на пляже. Бози был очарователен, Альфонсо красив, а погода великолепна. Констанс только что собрала в один том и издала «Оскариану», заработав тем самым пятьдесят фунтов! Одна лишь тень омрачала картину: отвратительного вида няня-швейцарка, которая занималась детьми и портила застолье.
В сентябре Констанс с детьми уехали, и Оскар остался с Бози, Альфонсо и новеньким — «малышом» Стивеном. Джордж Александер приобрел права на постановку пьесы «Как важно быть серьезным», а «Хеймаркет» принял, наконец, «Идеального мужа», и скоро должны были начаться репетиции.
Тем временем дело Тейлора закрыли, а Ч. Паркер записался добровольцем в армию. Все складывалось наилучшим образом; Уайльд увез Бози в Брайтон, чтобы провести конец сентября в «Гранд Отеле». Однако воцарившееся спокойствие оказалось недолгим. Бози заболел, начал осыпать Уайльда упреками, устраивал ужасные сцены и в конце концов добился того, что измученный Уайльд тоже заболел. Тогда Бози бросил его и вернулся в Лондон, взбешенный тем, что Уайльд всерьез ожидал, что он возьмет на себя роль сиделки.
Дуглас вконец потерял разум, осторожность и вел себя вызывающе, появляясь всюду с красивым гомосексуалистом Джоном Фрэнсисом Блоксомом, который создал новый журнал «Хамелеон». Он опубликовал в нем стихотворение «Две Любви», которое заканчивается словами: «Я — любовь, которая не осмеливается назвать свое имя», потребовав, чтобы Уайльд передал в журнал для публикации свои «Заветы и философию для молодого поколения», где говорится о его все возрастающей любви к красоте и молодости. Одновременно журнал опубликовал очень смелый текст «Священник и служка», который молва немедленно приписала Уайльду. Парадокс заключается в том, что именно ему, столько раз обвинявшемуся в заимствованиях, приписали авторство скандальных произведений: «Священник и служка», «Зеленая гвоздика», «Шэмрок».
И словно всего этого было недостаточно для подкрепления становившихся все более явными обвинений Уайльда и Бози в особых пристрастиях, пришло известие о внезапной смерти вследствие несчастного случая старшего брата Бози лорда Драмланрига. Поговаривали, что это было самоубийство, совершенное якобы из боязни скандала, в который грозило вылиться обнародование его очень личных отношений с лордом Роузбери. Уайльд тщетно пытался откреститься от авторства «Шэмрока»: «Мне едва ли стоит заявлять, что я не имею ничего общего с этой посредственной и низкопробной книгой, которая не по праву имеет такое красивое и странное название. Цветок7 сам по себе — произведение искусства, а книга — нет», — или от других пьес, которые ему приписывали, — его все равно продолжали подозревать в том, что он был центром беспрецедентной по масштабам истории о греческом разврате, имевшей место в викторианскую эпоху, в которую, впрочем, подобные нравы были довольно широко распространены среди аристократии. Уайльд являл собой личность, чья слава не знала границ, чей успех казался ошеломительным и чья ирония не знала пощады. Кроме того, он неоднократно заявлял о своих проирландских политических симпатиях; а тут еще все вдруг вспомнили о политической активности его матери и скандальной жизни отца. Стало ясно, что появилась возможность смягчить впечатление о странных нравах внутри достойного общества, если начать показывать пальцем на того, кто якобы является причиной скандала.
Конец октября застал Уайльда в Лондоне, он был болен и скучал в разлуке с Бози. Его можно было встретить в театре в обществе королевского лорда-гофмейстера и графа Эскуита, будущего премьер-министра Англии. Сидя в королевской ложе, он делал вид, что не слышит шепот и язвительные замечания, которыми отныне встречали Уайльда повсюду, куда бы он ни пришел, что, впрочем, ничуть не мешало ему участвовать в традиционных поздних ужинах, воспринимавшихся как вызов, брошенный обществу, которое все еще продолжало превозносить его и которое он презирал за то, что слишком хорошо знал!
В декабре он присутствовал на репетициях «Идеального мужа» и в это же время подписал договор с Джорджем Александером на постановку пьесы «Как важно быть серьезным», которую уже начали репетировать в театре «Сент-Джеймс».
3 января 1895 года Оскар Уайльд вновь поднялся на вершину славы. В этот день на сцене давали премьеру пьесы «Идеальный муж», в которой мастерство автора достигло такой силы, что поразило всех, в том числе и Бернарда Шоу: «В какой-то мере для меня мистер Уайльд является нашим единственным драматургом; он играет буквально со всем: с остроумием, с философией, с драмой, с актерами и публикой, со всем театром»… а также с собственной жизнью! Вечер обернулся подлинным триумфом. Редкая привилегия — сам принц Уэльский, который знал и любил Оскара Уайльда, присутствовал на спектакле и горячо поздравил автора. Публика упивалась тем, с какой дерзостью этот ирландец позволял себе нападать на святая святых светских условностей. Критики не могли прийти в себя от обилия остроумных изречений, а Уайльд, сидя между Бози Дугласом и совсем юным сыном полковника Кенниона Томом, не думал ни о Куинсберри, ни о своих кредиторах, ни о предсказаниях «пифии с Мортимер-стрит». После спектакля компания отправилась к «Уиллису», беззаботно комментируя номер «Хамелеона», где только что было напечатано стихотворение Бози «Две Любви».
На следующий день Уайльд взял с собой юного Тома («сына одного очень старого приятеля») на ужин к «Сфинксу», которой предварительно написал. Он встретился за завтраком в «Альбермэйле» с Джорджем Александером, чтобы обсудить детали, связанные с пьесой «Как важно быть серьезным», согласившись сократить одну сцену, поскольку пьесу сочли слишком длинной. Он поблагодарил Аду Леверсон за статью об «Идеальном муже» и вновь заверил ее в своем восхищении и дружеских чувствах.
16 января 1895 года Уайльд вышел навстречу своей судьбе. Из гостиницы «Альбермэйл» он написал: «Дорогая Сфинкс, да, завтра я уезжаю с Бози в Алжир. Я умолял его позволить мне остаться на репетициях, но у него такой ангельский характер, что он не преминул мне отказать». Накануне отъезда он дал интервью «Сент-Джеймс-газетт», как бы бросив на прощанье свою последнюю дерзость: «Было бы несправедливым путать французскую театральную критику с английской. Французский критик всегда образованный человек, чаще всего литератор. Во Франции театральными критиками были такие поэты, как Готье. Что же касается Англии, то здесь критики происходят из значительно менее благородных сословий. У них нет ни таких же качеств, ни таких же возможностей. Все они обладают моральными качествами, но не имеют никакой художественной квалификации. Критика столь сложного выразительного средства, каким является драматическое искусство, требует высочайшей культуры. Человек, не разбирающийся в других видах искусства, не может называться театральным критиком. У английских критиков нет ни прошлого, ни будущего, они неспособны разобрать оттенки мгновения, в которое погружает их театральная постановка». 17 января 1895 года Уайльд и Бози отплыли в Алжир. Они достигли алжирских берегов 25 января, и Уайльд написал Робби уже из гостиницы: «Здесь столько красоты. Юные кабилы очаровательны. В самом начале нам пришлось нелегко, прежде чем удалось найти более или менее цивилизованного гида. Но сейчас все в полном порядке, и мы с Бози пристрастились к гашишу: это просто восхитительно; три глотка дыма, а затем покой и любовь. От самого лучшего гашиша Бози просыпается по ночам и плачет, точно ребенок. Мы проехали с экскурсией по горным районам Кабилии — там полно деревень, населенных фавнами. Многие пастухи играли в нашу честь на своих дудочках. Удивительные черноволосые существа неотступно следовали за нами из леса в лес. Даже нищие выглядят здесь очень неплохо, решая таким образом проблему бедности… А самый красивый юноша Алжира, по словам нашего гида, скорее всего, разочарует нас; как грустно, не правда ли? Мы с Бози очень расстроены». Окружающие уже обращали внимание на то, что в последнее время Уайльд прилагал все меньше и меньше усилий для того, чтобы сохранить свою маску; здесь он сбросил с себя мишуру притворной добропорядочности и предстал в облике развратителя, безумно рвущегося к новым удовольствиям под жарким африканским солнцем, пособником его фантазий.
Вернувшись из Африки, Андре Жид удалился в Швейцарию и написал там «Топи», не переставая при этом мечтать: «Сидя на срубленном дереве, я снова мысленно возвращался в сады Бискры, именно в этот час Садрек Бубукар молча подсаживался к моему костру и закуривал свою сигарету с коноплей. Поль возвращался с работы в сопровождении Атмана и Башира. Хватит ли мне терпения дождаться здесь весны?»
19 января 1895 года он сел в Марселе на пароход, направлявшийся в Алжир, куда и прибыл 22 января. А 24-го он уже ехал из Алжира в Блиду. 26-го Жид встретился с Уайльдом и Бози: «Встреча с Уайльдом в Блиде! Ужасная эволюция в сторону зла, добровольный отказ от собственной воли… Он вернулся сегодня вечером, этот жуткий человек, самый опасный продукт современной цивилизации… Впрочем, ему не откажешь в обаянии — он несносен и вместе с тем величайшая личность». Жид пришел в смятение от бесстыдства, от философии и величия волшебника, который вновь околдовал его. Испытывая одновременно притяжение и страх, он писал: «Вечером, когда я уже собирался уезжать из гостиницы, я вдруг заметил табличку с его именем и именем его vademecum8, прикрепленную к доске постояльцев-иностранцев. Моим первым побуждением было снять оттуда табличку с моим именем; то был порыв трусости, в котором я тотчас раскаялся. Я велел поднять мои чемоданы обратно в номер и остался поужинать вместе с ними». Более того, он сопровождал их в какое-то подозрительное кафе, где вся компания с восторгом наблюдала за потасовкой между молодыми арабами. В этот день он прислушивался к разглагольствованиям Дугласа, что не могло укрыться от понимающего взгляда Уайльда: «Какие глупые эти гиды: сколько им ни объясняй, они все равно приведут тебя в кафе, где полно женщин. Я надеюсь, вы такой же, как и я, а я ненавижу женщин. Я люблю только мальчиков». Уайльд добавил, что ему хотелось бы повстречать арабов, прекрасных, как бронзовые статуи. На следующий же день Жид «почти тайком» уехал в Алжир, где снова встретил Уайльда, о чем в полном отчаянии сообщил матери: «Помнишь, я писал тебе, что был вынужден поспешно уехать из Блиды из-за этого ужасного Уайльда, который полностью оккупировал город? Я вновь встретил его здесь. В первый же день мы поужинали и провели вечер вместе. Юный Дуглас задержался еще на один день в Блиде. Чудеса! Чудеса! Эти два существа… и этот молодой лорд, которого я уже начинаю видеть насквозь, этот будущий маркиз, сын короля, этот шотландец двадцати пяти лет от роду, уже увядший, разоренный, пожираемый болезненной жаждой подлости, ищущий бесчестья и находящий его, но исполненный вместе с тем смутного достоинства… Такой типаж можно встретить в исторических трагедиях Шекспира. А Уайльд! Уайльд!! Что может быть трагичнее, чем его жизнь!! — если бы он был благоразумнее, если бы он был способен на благоразумие, то стал бы гением, великим гением. Но он сам говорит, он сам это признает: „Я вложил свой гений в собственную жизнь, а талант — только в творчество. Я знаю, что в этом самая большая трагедия моей жизни“. Вот почему все те, кто будет иметь возможность посмотреть на него вблизи, содрогнутся от ужаса, как это всегда бывает со мной — и от чего-то великого и прекрасного… Если бы пьесы Уайльда не шли в Лондоне по триста спектаклей за сезон и если бы принц Уэльский не присутствовал на всех его премьерах, он оказался бы в тюрьме, и лорд Дуглас тоже».
В присутствии Уайльда Андре Жид буквально потерял голову, пребывая в смутном ожидании того, чего одновременно боялся и на что надеялся с тех пор, как его отношения с Мериемом закончились неудачей. Когда они остались наедине, Уайльд так объяснил ему причины своего присутствия в Алжире: «Видите ли, я бежал от искусства. Отныне я хочу чтить только солнце… Вы замечали, что солнце ненавидит мысль; оно всегда заставляет ее отступать и прятаться в тени. Сначала она жила в Египте; солнце завоевало Египет. Она долго жила в Греции; солнце завоевало Грецию; затем Италию, а затем Францию. Теперь мысль перебралась в Норвегию и Россию, туда, куда никогда не доходит солнце. Солнце ревниво относится к произведению искусства». Жид прекрасно чувствовал трагическую одержимость Уайльда, и его охватила дрожь, когда Уайльд наклонился к нему и прошептал: «Речь идет не о счастье. О наслаждении! Необходимо всегда желать только самого трагичного». Спустилась ночь, в такую же ночь Жиду не довелось отведать трагического наслаждения с Мериемом. И что же? Он позволил Уайльду увлечь себя в глубину темных улочек в мавританское кафе, где их дожидались два «чудесных подростка», один из которых принялся играть на тростниковой дудочке. Выпив чаю с мятой, они вышли на улицу, и Уайльд предложил Жиду маленького музыканта. «О! как же темно было на улице! Я вдруг ощутил, что у меня остановилось сердце; и сколько же мне понадобилось мужества, чтобы ответить: да, и каким глухим был мой голос!» В ответ раздался сатанинский хохот Уайльда, и он подал гиду знак. Через несколько минут они были в гостинице: «Уайльд достал из кармана ключ и пригласил меня в крошечный номер, состоящий из двух комнатушек, где через несколько мгновений к нам присоединился наш отвратительный гид. Следом за ним вошли оба подростка, укутанные в бурнусы, закрывавшие им лица. Гид оставил нас. Уайльд предложил мне и малышу Мохаммеду пройти в дальнюю комнату, а сам заперся в передней комнате вдвоем с игроком на дарбуке9. С тех пор всякий раз, когда я стремился к удовольствию, я неизменно возвращался в мыслях к этой ночи». Что может быть яснее, чем этот рассказ; не стоит лишь забывать, что откровения Жида появились с большим опозданием и были опубликованы в эпоху, когда признания такого рода были гораздо менее компрометирующими.
На следующий день Уайльд завел разговор о возвращении в Лондон, и Жид, который был прекрасно осведомлен обо всех скандальных слухах и угрозах, окружавших жизнь Уайльда, попытался предостеречь его, говоря о риске, которому он подвергал себя по возвращении, и умоляя его быть благоразумным. Тогда Уайльд сделал признание, которое объясняет смысл всех его дальнейших самоубийственных поступков: «Странные люди мои друзья: советуют мне быть благоразумным. Благоразумие! Могу ли я быть благоразумным? Это было бы отступничеством. А мне надо идти вперед как можно дальше… Я уже не могу идти дальше… Скоро должно что-то случиться… что-то иное».
Жид проводил его в порт и здесь, прощаясь, Уайльд вернулся к своему разрыву с Пьером Луисом и исправил фразу, которую кто-то коварно передал в свое время Жиду: «Вы думали, у меня есть друзья. У меня есть только любовники. Прощайте»; на самом деле фраза звучала так: «Я хотел иметь друга; отныне у меня будут только любовники». В соответствии со своим собственным, неоднократно высказанным желанием, он сознательно покинул волшебные сады удовольствий, чтобы отправиться в растерзанную долину страдания. Его облик надолго остался в памяти Жида: «Скажи! в каких морях будет плыть твой корабль, смутивший белизну волн? Почему же, Меналк, ты не хочешь вернуться сейчас, полный дерзкого удовольствия, счастливый от возможности вновь утолить мои желания?»
3 февраля Оскар Уайльд вернулся в Лондон, в то время как Бози задержался в Бискре, готовя похищение очередного юного араба. Уже месяц как «Идеальный муж» с огромным успехом шел на сцене в «Хеймаркете». Пьесу «Как важно быть серьезным» репетировали в театре «Сент-Джеймс». 12 февраля прошла репетиция в костюмах этой легкомысленной пьесы для серьезных людей с Джорджем Александером в главной роли. Премьера должна была состояться 14 февраля; Джордж Александер и Уайльд узнали, что маркиз собирается прийти и устроить скандал. Куинсберри и в самом деле планировал появиться на премьере с букетом свежих овощей, чтобы выставить своего врага посмешищем и спровоцировать скандал, о чем Уайльд поспешил сообщить Бози: «Да! „багровый маркиз“ замышлял обратиться к публике на премьере моей пьесы! Алджи Берк раскрыл его заговор, и он не был впущен в театр. Он оставил для меня нелепый букет из овощей! Это, разумеется, идиотская и недостойная выходка. Явился он туда с боксером-профессионалом. Я призвал на охрану театра весь Скотленд-Ярд — двадцать полицейских. Он рыскал вокруг театра три часа, после чего удалился, вереща, как некая чудовищная обезьяна».
Вечер закончился триумфом, Уайльд окончательно покорил Лондон, публику и критиков — всех вместе. Отвечая на вопросы при выходе из театра, он сказал: «Первый акт искусен, второй очень красив, а третий чертовски удачен». Театральные режиссеры в один голос умоляли его написать пьесу для них. У Уайльда появилась возможность расплатиться с кредиторами и снять номер для себя и Бози в Кале, куда он поехал встречать юного лорда. Он сделал вид, что забыл о маркизе, который был в курсе, что его сын снова встречается с Уайльдом, и который был унижен провалом своей акции в театре и пребывал в бешенстве, слушая хвалебные песнопения во славу триумфального успеха величайшего драматурга.
18 февраля 1895 года маркиз Куинсберри появился в обществе одного свидетеля перед домом 14/15 по Альбермэйл-стрит и вручил портье клуба карточку, на которой было написано: «Оскару Уайльду, позирующему в качестве сомдомита (sic)»10.
Портье, который не понимал значения этого слова, поместил карточку в конверт и положил ее для Уайльда. На следующий день Уайльд вышел из гостиницы «Авондэйл» на Пиккадилли, где он принимал Бози и юного Тома, и направился в свой клуб. Он взял в руки карточку, прочел и побледнел. Никто, кроме него, не видел этой карточки и не мог прочитать, что на ней было написано. Оскар сам сообщил об этом Робби. Верный Робби немедленно помчался на Тайт-стрит и нашел там Констанс и Дугласа. Он счел происшествие малозначительным, так как никто не видел оскорбительной карточки, а у Куинсберри не было никаких доказательств для того, чтобы подать жалобу в суд; Робби рекомендовал сохранять осторожность, несмотря на гневные взгляды Бози, который ревновал Уайльда к Робби Россу. Несколько дней спустя Фрэнк Харрис предпринял попытку помешать Уайльду совершить безумный поступок, на который его толкала ненависть Бози к отцу, а именно: подать на маркиза в суд за клевету: «Я абсолютно не уверен в том, что английский суд способен вынести справедливое решение; я, напротив, убежден в том, что английский суд из всех судов на свете наименее пригоден для решения вопросов искусства и морали… Не забывайте, что все косвенные доказательства будут против вас. Люди скажут так: вот отец, который пытается защитить своего сына. И если он допустил ошибку, то лишь потому, что переусердствовал…» Но Уайльд лишь покачал головой, признавшись в своей слабости: «Вы же знаете, что это Бози Дуглас хочет, чтобы я полез в драку». На следующий день, выяснив как можно больше деталей, касающихся поведения своего друга, и прийдя к выводу, что такой процесс — полная бессмыслица, Фрэнк Харрис встретился с Уайльдом в «Кафе Рояль». Его сопровождал Бернард Шоу, и они оба заклинали Уайльда уехать из Англии, забрав Констанс и детей и оставив Куинсберри на растерзание друг другу. Уайльд уже почти согласился, но в этот момент вмешался Дуглас. Он попросил Харриса повторить свои слова, к которым до этого прислушивался с видом обиженного ребенка. Затем, внезапно придя в бешенство, гневно бросил: «По этому совету видно, что вы Оскару не друг!», после чего направился к выходу, увлекая за собой Уайльда, который поплелся за ним, повторяя, словно в каком-то отупении: «Это не дружеский совет, Фрэнк. Нет, друг так не скажет».
Так Уайльд оказался готовым к тому, чтобы в одиночку — так как он не желал впутывать Бози в эту ссору — ввязаться в заведомо проигранную драку против маркиза Куинсберри. Он понимал, что тем самым будут обнародованы его пристрастия, о которых до сих пор по молчаливому согласию все говорили лишь шепотом; он знал о необузданности нравов рода Куинсберри, о своей собственной слабости и о риске, которому подвергался в момент своего наивысшего триумфа. Харрис советовал ему уехать, Бернард Шоу взывал к его разуму, Констанс собиралась бросить его в преддверии скандала, Робби умолял быть благоразумным. Все бесполезно; Бози настаивал, и Оскар Уайльд должен был идти до конца, став орудием мести лорда Альфреда Дугласа.
Кроме того, Уайльд начинал испытывать чуть ли не восторг от этой новой роли, от неминуемого скандала, который должен был стать последним штрихом шедевра, в который он всегда мечтал превратить свою жизнь. А на сцене «Хеймаркета» можно было ежевечерне слышать, как герой «Идеального мужа», которому грозили разоблачения его постыдного прошлого, восклицал: «Все мы созданы из плоти и крови, и женщины, и мужчины; но мужчина любит женщину, зная все ее слабости, все ее причуды и несовершенства, — и, может быть, за них-то он ее больше всего и любит… Потому что не тот нуждается в любви, кто силен, а тот, кто слаб. Вот когда мы раним себя или когда другие нас ранят, тогда должна прийти любовь и исцелить наши раны. А иначе зачем любовь? Истинная любовь прощает все преступления, кроме преступления против любви… Грех моей юности, который я считал похороненным, вдруг встал передо мной — страшный, омерзительный — и схватил меня за горло…» Именно такие слова в скором времени сможет произнести сам Уайльд, когда Констанс с ужасом откроет для себя подробности скандального прошлого отца ее детей, ощутит выплеснувшийся на нее позор и будет вынуждена, сменив имя, покинуть Англию. Пока же, покорный Дугласу и охваченный соблазном примерить эту новую маску, говорящую правду, подталкиваемый плебейской гордостью, сын Сперанцы намеревался выступить против маркиза — тирана собственной семьи — и его аристократического высокомерия.
В пятницу 1 марта 1895 года Оскар Уайльд и Робби Росс явились к адвокату Хамфрису, который ничего не знал о непристойных склонностях своего клиента, и рассказали ему о ситуации, сложившейся в связи с угрозами Куинсберри, его выходкой на премьере и той самой карточкой, которую он оставил в клубе «Альбермэйл». После того как Уайльд в присутствии адвоката торжественно поклялся, что выдвинутое против него обвинение в содомии ложно (что, безусловно, так и было), Хамфрис отправился с ними в полицейский участок, чтобы оформить постановление об аресте. 2 марта маркиза взяли под стражу в гостинице, где он проживал. Ему предъявили официальное обвинение в судебном участке на Марлборо-стрит, после чего судебное слушание было отложено на неделю, а маркиза выпустили под залог в пятьсот фунтов. Одновременно с поднятием занавеса на сцене «Сент-Джеймса» и «Хеймаркета», игравших последнюю пьесу Оскара Уайльда, автор стал исполнителем главной роли в пьесе, которая будет разыграна в зале суда Олд-Бейли.
В один из вечеров, после очередных оваций в «Сент-Джеймсе», он ужинал у леди Рэндольф Черчилль, матери сэра Уинстона. Оскар Уайльд, наэлектризованный предчувствием приближающейся развязки, был как никогда великолепен. Он утверждал, что готов импровизировать без подготовки на любую тему. Один из гостей тотчас же поднял бокал и предложил: королева; ответ прозвучал, как удар хлыста: «Она не может быть темой». На глупую просьбу назвать сотню лучших, по его мнению, книг он иронизирует: «Я вряд ли смогу ответить, так как у меня их пока только пять». Его речь была подобна фейерверку, который высвечивал талант собеседника, его остроумие и желание взбудоражить викторианское общество. «Он заставлял агонизирующее викторианское общество смеяться над самим собой, — писал Ле Галльенн, который присутствовал там в этот вечер, — и того, над чем в течение стольких лет упорно трудились суровые реформаторы, он достигал мгновенно при помощи одной лишь эпиграммы, используя в качестве орудий лишь собственное остроумие и чувство юмора».
Оскар Уайльд достиг такой точки собственной жизни, где все его качества оказались бесполезными, а сам он был не в силах предотвратить последнее предсказание гадалки: «…Блестящий успех, затем стена, а за стеной — пустота!»
Примечания
1 Джордж Александер (1858–1918), известный английский актер и режиссер. В 1881–1889 годах играл в труппе Генри Ирвинга, затем с 1891 года и вплоть до своей кончины арендовал театр «Сент-Джеймс». (Прим. пер.)
2 Театр «Сент-Джеймс» расположен в самом сердце Вест-Энда. Он был основан известным тенором Джоном Брэмом, протеже леди Гамильтон. В 1882 году он приобрел трактир в Сент-Джеймсе на Кинг-стрит за восемь тысяч фунтов и начал строить театр при поддержке короля Вильгельма IV, влюбленного в ту пору в актрису миссис Джордан. 14 декабря 1885 года театр «Сент-Джеймс» распахнул свои двери. Преодолев изначальные трудности, театр вскоре аплодировал Гортензии Шнайдер, в которую был влюблен принц Уэльский, прежде чем воспылал страстью к божественной Лилли Лэнгтри. В 1891 году директором театра стал Джордж Александер.
3 Джон Уэбстер (1580–1624), английский драматург, автор двух драм в стихах «Белый дьявол» (1612) и «Герцогиня Амальфи» (1614), которые по своей трагической силе и богатству мыслей стоят в одном ряду с лучшими произведениями У. Шекспира. (Прим. пер.)
4 Этот театр, расположенный в центре Вест-Энда, является старейшим лондонским театром (построен в 1720 году) после Королевского театра Друри Лэйн. На его сцену поднимались, сменяя друг друга, величайшие актеры — Мак Реди, Эдмунд Кин, Чарльз Кембл, миссис Сиддонс, Эллен Терри, Лилли Лэнгтри… В 1878 году на сцену «Хеймаркета» вышел Герберт Бирбом Три. Девять лет спустя он стал директором театра. Именно он стал гарантом успеха всех постановок спектаклей и превратил это заведение в место высокой моды, где представления разыгрывались как на сцене, так и в зрительном зале. В дни премьер весь Лондон буквально сражался за билеты.
5 В своих воспоминаниях Фрэнк Харрис пишет, что эта реплика была адресована приятельнице Уистлера и весьма некрасивой женщине Анне де Бове. Однако певица в своих мемуарах утверждает, что именно она явилась адресатом этой остроты, приведшей ее в полный восторг.
6 Перевод Н. Гумилева.
7 Шэмроком в Ирландии называют клевер.
8 «Иди со мной» (лат.) — здесь: неизменный спутник. (Прим. пер.)
9 Вид барабана в арабских странах. (Прим. пер.)
10 В последнем слове маркиз написал лишнее «м». (Прим. пер.)
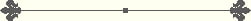
2015– © «Оскар Уайльд»