

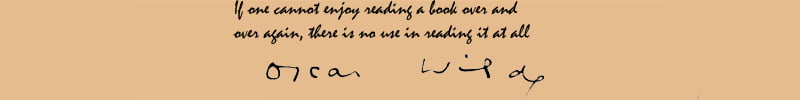
Гальфдан Лаангард - Оскар Уайльд. Личность
Гальфдан Лаангард - Оскар Уайльд. Его жизнь и литературная деятельность.
Биография Оскара Уальйда
Исчезают лишь второстепенные качества, — истинная природа человека скоро выходит наружу.
О. Уайльд
Когда Оскар Уайльд вернулся из своего американского путешествия, которое, впрочем, не удовлетворило его ожиданий, он находился, по его словам, во втором периоде своей жизни. Он поселился в Париже в доме Вольтера, на улице его же имени, в самом центре писательского квартала и одной из прекраснейших частей города. У него там была целая анфилада комнат с великолепным видом на Сену, которая, по его мнению, была удивительно хороша, особенно для хозяина, который брал за нее особо высокую плату и Джентльмен никогда ведь не смотрит в окно!
Оскара Уайльда охотнее всего вспоминают по этому периоду его жизни.
Он считался теперь в числе европейских знаменитостей и был желанным гостем в писательских и артистических кружках, где своим живым, остроумным разговором распространял вокруг себя всегда живую и благотворную атмосферу.
Он был постоянным гостем в доме Виктора Гюго и был близок с Эдмондом де-Гонкуром, Арманом Пуэном, Генри Беком, Мореасом, ла-Тэйэдом, Россом, Турнером, Гейбергом, Фритцом Тауловым, называя только известные имена.
Среди драматических артистов он не пользовался, по-видимому, большой любовью, хотя Коклэн и очень ценил его, — не говоря уже о Сарре Бернар, которая буквально его боготворила.
По его словам, он бывал часто у одной состоятельной дамы, у которой была странная привычка, представляя кого-нибудь, перечислять все его качества или вообще всё, что касалось его. Так, однажды она представила Уайльду какого-то молодого человека, который отличался тем, что накануне дядя его упал с поезда подземной железной дороги и сломал себе обе ноги. По-видимому, эта дама послужила Уайльду прототипом для леди Брандон в "Портрете Дориана Грея". Почти ежедневно он встречался с Полем Бурже или в артистическом кафе у Монпарнасского вокзала или в кафе д’Орсэй.
Их дальнейшая жизнь пошла по диаметрально противоположным направлениям: приблизительно в то время как Бурже был принят во Французскую Академию, Оскар Уайльд попал в тюрьму.
Уайльд возмущал парижан своим оригинальным костюмом, хотя последний был уже гораздо "цивилизованнее", чем раньше. В особенное негодование приводила Леона Доде дорогая шуба Уайльда, шуба, которую "носят только зубные врачи и оперные певцы, с которыми далеко неохотно встречаешься".
Но он привлек всех на свою сторону своим легким остроумным разговором, который он постоянно приправлял всё новыми выражениями и словечками. В отличие от большинства англичан он говорил и писал на превосходном французском языке. Напомним хотя бы, что его знаменитая библейская драма "Саломея" была написана им первоначально по-французски — для Сарры Бернар.
У Оскара Уайльда всегда был тот или другой любимый поэт, которому он всячески подражал. В течение нескольких лет первое место занимал Бодлер; в парижский же период его сменил Оноре де-Бальзак. За работой он носил обыкновенно белый халат, похожий покроем на монашескую рясу и носил его только потому, что такой же был у Бальзака. На улице он появлялся всегда с тростью, точной копией с известной трости из слоновой кости Бальзака, с совершенно таким же тюркизовым набалдашником. В комнате у него лежали, разумеется, всюду всевозможнейшие книги о Бальзаке — биографии, сборники анекдотов, критические статьи, карикатуры, пародии и другие интересные вещи.
Бальзак заметил как-то, что все великие поэты, неутомимые труженики, и Уайльд должен был тоже поэтому вооружиться большим прилежанием. Однажды вечером, когда, будучи в обществе, он рассказывал, сколько целый день он работал, кто-то спросил его, что же он сделал. "Я всё утро читал корректуру нескольких стихотворений и вычеркнул одну запятую". "А после обеда?" "После обеда, — да, — я поставил запятую на прежнее место."
Всё, что он сделал за время своего пребывания в Париже, было окончание пьесы "The Duchess of Padua" ("Герцогиня Падуанская"), драмы в стихах, не попавшей, однако, в то время на сцену и сыгранной впервые только в 1891 году в Нью-Йорке. Так как она никогда не появлялась в печати, то существовало мнение, что она утеряна, и некоторые сомневались, даже вообще в её существовании, пока в 1894 году одному немецкому ученому не удалось ее разыскать.
Вследствие этого доходы Уайльда это время были весьма не велики, и по возвращении в Лондон он был принужден предпринять путешествие по Англии с целью чтения лекций жизнь, которая далеко ему не улыбалась. "Прилежание — это корень всего безобразного", говорил он обыкновенно. И, действительно, в сущности он принадлежал к числу тех полухудожников, которые, по выражению Бальзака, "passent leur vie а se parler".
Оскар Уайльд был, действительно, блестящий "parler"1 или, вернее, "raconteur"2. В обществе он постоянно сосредоточивал разговор вокруг себя, и другие со вниманием его только слушали. Сам слушать он не умел, и мысли других его не занимали нисколько. Он не терпел, чтобы его перебивали, и если кто-либо другой чересчур часто вставлял свое словечко, он начинал сердиться и или совсем уходил, или садился в угол и сидел надутый весь вечер. Долго, однако, он молчать не умел. Время от времени он вставал, брал первого попавшегося под руку, отводил его к окну и выпаливал ни с того, ни с сего: "Знаете, почему Христос не любил свою мать?" И не дожидаясь ответа, добавлял с громким смехом: "Потому что она была девой!" Этим он удовлетворялся и опять спокойно усаживался в угол.
Он говорил удивительно мягким голосом, — тихо, медленно, буквально смакуя слова, и увеличивал впечатление, повторяя одни и те же слова и фразы и пользуясь паузами. С изумительной неустрашимостью он пускал в ход свои гениальные афоризмы, свои знаменитые, остроумные, хотя иногда и утомительные парадоксы. Но охотнее всего он рассказывал небольшие истории, сказки, эпизоды, изящные, небольшие сравнения и стихотворения в прозе, блестевшие остроумием и законченностью стиля и обнаруживавшие немалое сходство с Бодлеровскими "Petits poemes en prose"3.
Например:
"Когда на землю спустились сумерки, Иосиф Аримафейский зажег свой сосновый факел и спустился с холма вниз в долину. Он возвращался с работы домой.
И в долине скорби он увидел юношу; тот стоял на коленях на камне, был наг и плакал. Волосы его были цвета свежего меда, а тело, как белый цветок. Но шипами он изранил его, а голову свою, вместо короны, посыпал пеплом.
И богатый сказал юноше, который был наг и плакал:
"Я вижу, горе твое велико, ибо истинно, Он был праведник."
И юноша отвечал:
"Не к Нему текут мои слезы; я плачу о самом себе. И я превращал воду в вино, и я исцелял прокаженных, и я делал слепых зрячими. Я ходил по волнам и победил искусителя. Я накормил голодных в пустыне и пробудил мертвецов в их тесных гробах. После моей молитвы выросло на глазах у всех плодоносное дерево. Всё, что делал этот человек, делал и я.
И всё-таки они меня не распяли".
Он не всегда рассказывал одинаково остроумно, особенно когда впервые встречался с чужими. Тогда он начинал как бы зондировать почву, приходятся ли и им по вкусу его истории. Если же между слушателями был кто-нибудь, кто казался ему особенно внимательным, он отводил его в сторону и говорил: "Вы слушаете глазами, и поэтому я хочу рассказать вам историю:
Когда умер Нарцисс, сладкие" воды озера превратились в соленые слезы, а из лесу с плачем вышли ореады, чтобы песнями утешить озеро.
И увидев, что сладкие воды превратились в соленые слезы, они распустили свои зеленые косы, начали плакать и говорить:
"Мы понимаем, почему ты так скорбишь по Нарциссу: он был так прекрасен."
"Разве Нарцисс был прекрасен?" спросило озеро.
"Кто знает это лучше тебя", ответили ореады." Он без внимания проходил мимо нас, к тебе же ходил всегда, чтобы лежать на твоих берегах и отражать в воде твоей свою красоту".
И озеро отвечало: "Да, мне нравился Нарцисс, когда он лежал на моих берегах и смотрелся в воду мою. Ибо в зеркале его глаз мне было видно всегда отражение моей собственной красоты"
Однажды он спросил Андре Жида: "Что вы вчера делали?"
И когда тот рассказал о проведенном дне, совершенно просто, ничего не прибавив, Уайльд поморщил лоб и сказал:
"И больше ничего?"
"Нет, больше ничего."
"Так зачем же вы тогда говорите об этом? Вы же сами понимаете, что это ничуть не интересно. Есть, видите ли, два мира. Один, который существует без того, чтобы про него говорили; он именуется действительным миром, так как о нем не надо говорить, чтобы его видеть. Другой мир — это искусство. О нем говорить необходимо, так как в противном случае его нет. —
"В одной деревне жил некогда человек, который прекрасно умел рассказывать всякие истории. Каждое утро он уходил, и, когда возвращался, то его окружали все поселяне, усталые от дневной работы, и просили: "Расскажи, что ты видел сегодня."
"Он рассказывал: "Я видел в лесу фавна; он играл на флейте, а вокруг него плясали маленькие лесные эльфы." —
Что же дальше? —
"Придя к морю, я увидел на волнах трех сирен. Они расчесывали свои зеленые локоны золотыми гребнями." —
И люди любили его за эти рассказы.
Однажды утром он ушел по обыкновению в деревню. Придя к морю, он увидел на волнах трех сирен, которые золотыми гребнями чесали свои зеленые локоны. Пойдя дальше, он увидел фавна; он играл на флейте, а вокруг него плясали лесные эльфы.
Вечером его по обыкновению окружили люди и начали просить: "Расскажи, что ты видел!"
И он ответил: — "Я ничего не видал"
Уайльд молчал мгновение, чтобы впечатление от его истории лучше запечатлелось в уме слушателя и затем снова принимался рассказывать.
Он мог продолжать так до бесконечности.
С течением времени он приобрел много друзей, как в Лондоне, так и в Париже, друзей, которые приглашали его и с восторгом смотрели на него, как на свое божество. Они сравнивали его с сирийским царем, с римским императором — и даже с Аполлоном! Уайльд гордился, разумеется, этими сравнениями и старался подражать своим прототипам, — например, хотя бы своей прической Нерона. Сам он, в сущности, не был красив. Черты лица его были чересчур крупны, рот чересчур чувственный. Но в профиле было нечто красивое, в высшей степени странное: линии лба и носа шли параллельно, соединяясь косой линией переносицы.
Такой тип говорит об одаренности, говорят специалисты. У него были прекрасные глаза, дышавшие интеллигентностью и высокая, прямая фигура, — несколько полная, но замечательно гибкая. Туалет его требовал ежедневно нескольких часов, но зато его всегда можно было встретить тщательно надушенным и причесанным, со слегка завитыми волосами. В петлице он носил обычно какой-нибудь экзотический букетик, "так как", говорил он, "красиво составленный букет — это единственное, что соединяет природу с искусством."
Он хотел доказать буржуа, что современные писатели не убого одетые, жалкие бедняки, а изящные, элегантные, гордые джентльмены.
Аскетом Оскар Уайльд не был.
К нему скорее подходит название "сибарита". Он хотел быть всегда элегантно и красиво одетым, давать пышные обеды, — словом, жить на широкую ногу. "Удовольствие — это единственное, для чего стоит жить," говорил он, добавляя тотчас же к этому парадокс: "Ничто так не старит, как счастье." —
Он любил всё красивое. "Rien n’est vrai que le bean!" и старался, поэтому быть в своей внешности насколько возможно более красивым и интересным. Точно такой же изящной и красивой была и его речь, свободная от всего пошлого и безобразного. С уст его никогда не срывалось ни одного ругательства, ни одного намека на какую-нибудь грязную мысль. Когда кто либо в его присутствии затрагивал щекотливую тему, можно было быть уверенным, что Уайльд демонстративно встанет и выйдет из комнаты. И, действительно, это скоро научило его друзей считать величайшей бестактностью в его присутствии всякий пошлый разговор или грязный анекдот.
Это стоит, несомненно, в тесной связи с его антипатией ко всему безобразному, которая доходила чуть ли не до идиосинкразии. Она была частью его художественного темперамента, которую он столь же мало мог отрицать за собой, как и свою любовь к красоте. Он не мог побороть себя и находиться вместе с физически безобразными лицами. Познакомившись однажды с Полем Верленом, которого, как поэта, он ставил очень высоко, он не мог с ним потом никогда больше встречаться. А Верлен со своей стороны вынес из этой единственной встречи только то впечатление, что Уайльд выкурил неимоверное количество превосходнейших папирос. Это было вполне справедливым и метким наблюдением. На письменном столе Уайльда на Тайт Стрит в Лондоне, — столе, принадлежавшем прежде Карлейлю, — стояла всегда огромная пепельница или, вернее, целая чаша, предназначенная для пепла бесконечного числа папирос, выкуриваемых им. В ящике у него никогда не бывало менее тысячи штук! Однажды один из его друзей просил у него вспомоществования для одного бедного писателя, лишенного всяких средств к существованию. Человек этот страдал еще к тому же хронической сыпью на коже. Едва только Уайльд увидел его, как тотчас же, как сумасшедший, выбежал из комнаты. "Я не мог его видеть, он вселял в меня ужас."
"Безобразие", говорил он, "я считаю своего рода болезнью, а больные внушают мне всегда отвращение. Я прекрасно знаю, что человек, страдающий зубной болью, должен возбуждать сострадание, так как это невыносимая боль. Мне же он внушает одно только отвращение. Я не в состоянии смотреть на него — я должен, во что бы то ни стало уйти."
Несмотря на то, что Оскар Уайльд был эгоистом чистейшей воды, он принадлежал к числу бескорыстнейших людей. Это звучит, быть может, парадоксально, — но на самом деле это именно так. Не то, чтобы ему вдруг пришло в голову отдать все свои деньги и самому терпеть нужду. Аскетизм был далеко не в его натуре. Но всем своим излишком; он делился с друзьями, и далеко не один из них обязан Уайльду тем, что сумел пробить себе дорогу. Нищему он нередко давал целый фунт стерлингов. Это был единственный в своем роде друг. Он доказал, что значит дружба. Неутомимо он оказывал протекцию неизвестным писателям у издателей и антрепренеров.
Однажды один молодой писатель, с которым он едва был знаком, был предан суду по обвинению в проступке, совершенном им в припадке умопомешательства. Но он избег наказания и был немедленно освобожден только потому, что Уайльд поручился за него крупной суммой, что в будущем он не совершит ничего противозаконного, — несмотря на то, что его душевное состояние внушало весьма сильные опасения и Уайльд в то время совершенно не был в состоянии внести залог, если бы его от него потребовали.
Но из всех этих друзей лишь немногие не разочаровали его, когда его собственная звезда начала меркнуть.
Примечания
1 Хорошо владел языком, от французского parler - говорить
2 Рассказчиком(франц.)
3 Маленькими поэмами в прозе (франц.)
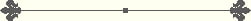
2015– © «Оскар Уайльд»