

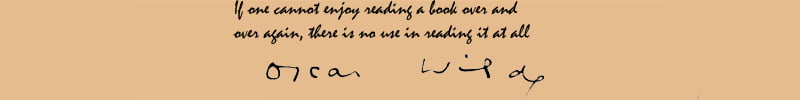
Эстетическая философия. Художественная критика Оскара Уайльда
Когда критики затевают спор, они доказывают этим, что художник творит в согласии с самим собой. " Не опасная мысль не заслуживает названия мысли.
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд ненавидел всё, что означало вмешательство в его личную жизнь. Он питал поэтому сильную антипатию к журналистам, — "людям, которые не дают спать художнику даже в гробу!" — "Прежде у людей были пытки — теперь у них пресса".
"В Америке", говорит он, "президент сидит у кормила правления четыре года, журналист же царит постоянно. Он существует благодаря тому, что публика жадно стремится узнать всё, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания. И журналист удовлетворяет этот спрос, как купец своих покупателей. Во Франции художник пользуется почти полной свободой, в Англии же абсолютный произвол находится в руках журналиста. Он предписывает художнику форму его произведений и материал для его творчества".
В виду этого Уайльд не терпел никакой критики. Зачем мешать художнику посторонним вмешательством? Как можно позволить тем, которые сами не в состоянии произвести ничего, отнимать ценность у творчества других? Что они понимают в этом? А если они и понимают, то тем более всякое разъяснение излишне.
В лучшую эпоху искусства критики не существовало. Греки были мудры и давали художнику полную свободу. Из дерева, мрамора и холста рождались великолепнейшие шедевры искусства; в работу художника не вмешивался никто, и газеты не мешали ему своими нелепыми рассуждениями о вещах, в которых они ровно ничего не понимают. Тем не менее — а, быть может, именно и потому — весь греческий народ был художественным судилищем, творившим драгоценные шедевры искусства во всех его областях, особенно же в области литературы. Своим тонким эстетическим инстинктом он изучил столь же глубоко ритм прозы, как современный музыкант гармонию или контрапункт и создавал при этом произведения, неизмеримо более ценные чем впоследствии, когда люди научились писать. Лишь ослепнув, Гомер начал творить, как должен творить каждый, — при помощи голоса. Он был истинным певцом, ибо песнь его зиждилась на тонах. Для зрения нам нужен больше душевный, чем физический взгляд. Искусство письма принесло литературе огромный вред. Мы должны вернуться опять к голосу, — голос должен стать нашим пробным камнем.
Греки выказали себя превосходными критиками, стараясь развивать, главным образом, язык. В сравнении с языком материал живописца и скульптора гораздо скуднее. Язык не только обладает звучностью, такою же дивной, как лира или лютня, красками, — такими же яркими и живыми, как на полотне испанского или венецианского художника, пластическими формами, сильными и уверенными, как статуя из бронзы или гранита, но лишь у него одного есть непосредственное выражение мысли, — страсти.
Несмотря на это Уайльд признает, что критика необходима, ибо ни одно творение не стало бы произведением искусства, если бы критика не должна была вынести свой приговор. Критическая мысль создает новые времена, новые формы. Уайльд сам строгий критик. Он не любит Ги де Мопассана, "так как он изображает либо призрачные трагедии, где все фигуры комичны, либо трагические комедии, где смех тонет в слезах."
— "Золя своим нелепым принципом: "l'homme de genie n’a jamais d’esprit" доказал только, что, не обладая гениальностью, он был по крайней мере способен навевать скуку на читателей". Типы Золя со всеми своими пороками и, еще более, добродетелями надоедали ему. Альфонса Доде он ставил значительно выше, хотя своим "Vingt ans de та vie litteraire" и заявлением, что все свои типы он взял из действительной жизни, он совершил, по мнению Уайльда, литературное самоубийство. Как известно, Уайльд отвергал эту склонность писателя заимствовать образы из действительности. — Поль Бурже, которого он называет отцом психологического романа, "начинает приучаться в бесконечных своих главах анализировать до мельчайших подробностей мужчин и женщин". Среди английских писателей он, в сущности, признает тоже только двоих: Мередита и Киплинга. Задача критика неизмеримо серьезнее, чем задача художника. Гораздо труднее говорить о чем-нибудь, чем говорить что-нибудь самому. Критика требует к тому же и большей культурности. Многотомный роман сумеет написать всякий: для этого не нужно знать ни жизни, ни литературы. Критику же нужна твердая почва, масштаб, точка зрения, чтобы быть в состоянии судить о художнике.
Нередко бросается обвинение, что критик не прочел даже до конца книги, о которой он говорит. Уайльд считает это обвинение несправедливым и недобросовестным. Подобно тому, как знатоку, желающему испробовать вино, не нужно выпивать целую бочку, точно также и критику достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, заслуживает ли книга внимания или нет. Опытный, знающий критик не потратит на это больше десяти минут! Кто стал бы корпеть над многотомным скучным произведением? Берешь пробу, и её довольно — больше чем довольно!
В чем же заключается задача критика? Должен ли он решать, моральна ли книга или аморальна? Уайльд отвечает "Нет ни одного морального художника. Мораль — это поза; мы пользуемся ею по отношению к людям, которые нам лично не симпатичны. Со всех точек зрения моральный человек самый неприличный! Что же касается литературы, то нет ни моральных, ни аморальных книг. Книги бывают написаны либо хорошо, либо плохо — и всё. Говорят, что аморальные книги наносят вред нравственности? Но что такое нравственность? Ренан говорит, что природа очень мало имеет общего с целомудрием, и, быть может, наши Лукреции обязаны своей чисто-той не своей собственной безукоризненной жизни, сколько позору наших Магдалин. Кто знает, что такое добродетель! Ни ты, — ни я! Никто! Для нас выгодно казнить убийцу, потому что, останься он жив, он увидал бы, какую пользу мы извлекаем из его преступления. Для спокойствия мученика прекрасно, что он умирает от своего мученичества. Благодаря этому он перестает быть свидетелем, того горя, которое он посеял. Самопожертвование, впрочем, должно быть воспрещено законом!
Публику пугает больше всего всякая новизна. Всякая попытка расширить её художественный кругозор ей в высшей степени неприятна.
Она проглатывает классиков и считает их непревзойденными. Не будучи в состоянии их отрицать, она ставит их на недосягаемую высоту и строит при этом серьезную мину. Несомненно, то, что классики служат средством тормозить всякий прогресс. Спрашивают писателя, почему он пишет не так, как пишет другой или третий, спрашивают живописца, почему он рисует не так, как другие, и забывают совершенно при этом, что всякий, кто делал бы это, перестал бы вообще быть художником. Всякий свежий творческий дух неприятен публике, и у неё есть только два способа избегнуть его влияния: первый — это назвать его творение непонятным, второй — объявить его безнравственным. Первым она только подтверждает, что художник создал нечто прекрасное, новое, вторым, что его прекрасное творение истинно. Первое суждение касается стиля, второе — сущности и содержания.
Художник не дает себя, разумеется, ввести в заблуждение. Истинный художник вообще не обращает внимания на публику: её для него не существует. Художник — это человек, который верит исключительно самому себе, так как основывается единственно на себе.
Произведение искусства никогда не может быть не здоровым, если оно совершенно и индивидуально. Что касается стиля, то он здоров, если дает нам увидеть, насколько прекрасен материал, употребленный художником в дело. Что же касается содержания, то, оно здорово в том случае, если выбор его обусловлен темпераментом художника и оно вытекаем непосредственно из его сущности.
В действительности, популярный роман, который публика именует здоровым чтением, всегда, безусловно, не здоровый продукт, между тем как то, под чем она разумеет не здоровую книгу, всегда прекрасное, здоровое произведение искусства.
В общем, нападки публики приносят художнику пользу: они укрепляют его индивидуальность, углубляют его личные переживания. Когда художники спорят, они этим доказывают, что художник творит в согласии с самим собой.
Критик не может быть справедливым судьей в обыденном значении этого слова.
Можно быть беспристрастным судьей лишь по отношению к вещам, нам далеким: это и есть причина того, что беспристрастный приговор не имеет никакой ценности. Кто рассматривает вещь с двух сторон, тот попросту не видит ее.
Утверждение, что художник в то же время и лучший критик, неправильно. Великий художник не может оценивать творения другого, — он едва способен судить о своих собственных. Во время своего творчества он тратит чересчур много критических сил и столь же мало способен проявить их в другой области, как в своей собственной. Судить о чужих вещах можно именно потому, что не в состоянии создать ничего своего. Ибо творческая способность суживает кругозор, между тем как способность суждения его расширяет. Никогда еще критика не была так необходима, как в наше время; лишь с её помощью мир может понять то, чего он достиг.
Гениальная критика способна объединить Европу теснее, чем торговля и солидарность интересов. Она способна водворить у нас мир, покоящийся исключительно на взаимном понимании.
Для критика произведение искусства — лишь исходный пункт нового индивидуального творчества, которое не нуждается вовсе ни в каком видимом сходстве с данным произведением. Благороднейшим признаком прекрасного художественного творения служит то, что в него можно вложить, что угодно и видеть в нем всё, что хочешь увидеть.
Высшая критика видит в произведении искусства то, чего художник в него не вложил.
Быть критиком, — значит показать художественное произведение в новом свете, в новом синтезе с нашей эпохой, и постоянно напоминать нам, что великое произведение искусства есть нечто живое, — единственно живое.
Но зачем это всё?
Не создать чего-либо, это — самое трудное и в то же время самое гениальное. Это благороднейшая форма проявления силы.
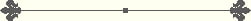
2015– © «Оскар Уайльд»