

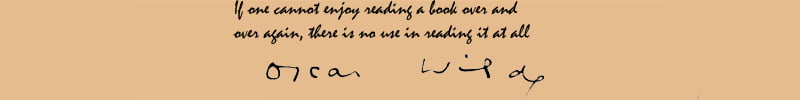
Кагарлицкий Ю.И. О сказках Оскара Уайльда
Английской сказке как-то всегда удавалось оставаться самой собой. Даже когда она выходила из-под пера писателя очень оригинального. В ней всё совершалось «почти как в жизни», хотя порой путями самыми невообразимыми.
Среди писателей, представленных в этой книге, есть, правда, один, к которому её название подходит с наибольшим, может быть, числом оговорок. Это Оскар Уайльд (1856-1900).
Относительно стиля Уайльда известны две взаимоисключающие вещи. Строй его языка на первый взгляд так элементарен, что его произведения очень быстро попадают в руки человека, начинающего читать по-английски. В стиле Уайльда нет ни небрежности, ни усложнённости. Он всегда находит самое нужное слово, и оно оказывается на самом нужном месте. Его фраза передаст мельчайшие оттенки смысла. Если что и можно поставить ему в вину, так это тягу к раритетам. Иные страницы его книг напоминают каталоги ювелирных и модных лавок. Но страсти к орнаментальности Уайльд привержен далеко не всегда. Он обходится и без неё.
И вместе с тем простота Уайльда — та же изощрённость. Интонация для него столь важна, что малейший оттенок фальши сразу меняет смысл. Одни и те же слова, расположенные в одинаковом порядке, могут приобретать в зависимости от контекста самое разное значение, хотя, с другой стороны, воспринятые в контексте, нередко передают противоречивость мысли. Уайльд — писатель абсолютно прозрачный. Но иногда это прозрачность глубокого, но такого чистого слоя воды, что всё просматривается до дна, иногда же попросту очень тонкого.
Касается это не только стиля. «Стиль — это человек». А Уайльд-человек — это Уайльд-писатель. Знавших Уайльда нисколько не удивляли его произведения, а читатели, встретившиеся с Уайльдом, видели в нём именно такого человека, какого ожидали увидеть. Великосветский сноб, красавец, законодатель мод, ежедневно выбирающий, какое принять из десятка приглашений, принесенных лакеем на серебряном подносе к утреннему чаю, он не принадлежал от рождения к среде, в которой был более чем свой. И круг его, и герои его произведений были почти сплошь аристократы, сам же он был интеллигент, сын известного дублинского хирурга и поэтессы, на жизнь зарабатывал литературным трудом и прекрасно понимал, что эти два определения — «аристократ» и «интеллигент» — нисколько не совпадают. И он тем более наслаждался своим светским успехом, что с какого-то момента сделалось непонятно, то ли герцоги и герцогини оказывают ему честь, зазывая в гости, то ли он им, принимая их приглашения. Он и образование получил в тех же учебных заведения, что и многие из них: сначала в дублинском Колледже Святой троицы (Тринити-колледж), потом в Оксфордском университете. Но там, где другие научались хорошим манерам и обзаводились дипломами, он приобрел блестящее образование. Уайльд превосходно знал иностранные языки, историю искусств и литературы, и всё обилие сведений, содержащихся в его произведениях, действительно составляло его умственный и духовный багаж. Здесь не было ничего от светской нахватанности.
Но этот очень серьёзный человек держался подчеркнуто несерьёзно. Одевался он вызывающе, и его элегантный костюм от лучшего лондонского портного порой украшал огромный подсолнух, он сыпал остротами и парадоксами, и никто не мог сказать, где его искреннее убеждение, а где лишь желание эпатировать.
Тем, кто по-настоящему его знал, легче было отделить зёрна от плевел. Привлекавшие всех лёгкость, раскованность, остроумие Уайльд показал ещё мальчиком в литературном салоне своей матери, но действительно стал самим собой в Оксфорде, где увлекся сочинениями знаменитого художественного критика Уолтера Пейтера (1839-1894) (в особенности его «Исследованиями по истории Ренессанса», 1873) и где слушал лекции другого, ещё более влиятельного искусствоведа Джона Рёскина (1819-1900). Пейтер и Рёскии были представителями английского эстетизма. Эстетизм как таковой всегда был достаточно воинственным течением мысли. Его началом принято считать работы Канта, Гёте, Шиллера и Шеллинга, в которых те, преодолевая ограниченность просветительской мысли, доказывали, что искусство является не просто способом популяризации истин, найденных в других сферах умственной деятельности, но и важной формой непосредственного исследования действительности. Однако английский эстетизм приобрёл особенно непримиримые формы. Этому были свои причины.
Преданность наживе, душевная чёрствость, безразличие к людским судьбам, издавна отличавшие английского буржуа, ещё более утвердились после проведенной в интересах буржуазии парламентской реформы 1832 года и поражения чартистского движения. Воцарение самодовольного торгаша и заводчика, никак не обременённого излишней культурой, сказалось и на формах быта. Уровень общественного вкуса стремительно падал. У людей интеллигентных это не могло не вызвать протест, причём протест эстетический со временем всё чаще перерастал в протест социальный. Возмущение помпезным зданием, возведенным, чтобы показать богатство его обитателей, совпадало с возмущением против тех, кто в нём жил. Всё, что было присуще обитателям этих домов, вызывало неприязнь. Не только человек познавался через вещи, но и люди, владеющие этими вещами, словно бы накладывали на них своё клеймо.
Началом английского эстетизма принято считать образование Прерафаэлитского братства (1848). Это была группа художников и поэтов, заявивших о своём неприятии академического искусства. Они столь решительно стремились с ним порвать, что их порою сравнивали с чартистами. Вряд ли это вполне справедливо. Прерафаэлиты боролись не за социальные реформы, а против стандартных вкусов, за возрождение красоты. Но дух протеста был в них настолько силён, что социальная сторона этого художнического бунта не могла не выйти на поверхность. Пейтер, стоявший у истоков прерафаэлитского движения, был человеком социально индифферентным, но Рёскин, решительно поддержавший прерафаэлитов, с годами всё больше склонялся к исследованию социальных и экономических вопросов и всё яснее обнаруживал свой политический радикализм. Что же касается одного из прерафаэлитов второго поколения, Уильяма Морриса (1834-1896), то он по праву числится среди основателей английского социализма. Уайльд всю жизнь поддерживал отношения с Пейтером, был лично знаком с Моррисом, восхищался им и его влиянию был, думается, обязан своей статьей «Душа человека при социализме» (1891). Правда, кое в чём он с Моррисом спорил. Моррис был сторонником ручного труда. Уайльд справедливо говорил, что без машин социализма не построишь, надо лишь, чтобы машины не подчиняли себе человека, а служили ему.
Но в английском эстетизме заключалась и немалая опасность, особенно обнаружившаяся в 80-е и 90-е годы, когда из Франции пришло слово «декаданс». Оно определило целый комплекс явлений, начинавших сказываться и в английской духовной жизни.
Протест против буржуазного культа пользы подталкивал многих сторонников эстетизма к теории «искусства для искусства». И если сторонники раннего эстетизма разрушили просветительское представление об идентичности искусства с моралью, то декаденты заявляли, что искусство вообще с нею несоотносимо. Многие их произведения проповедовали аморализм, наслаждение злом, извращённостью. Да и проблема самоценности искусства трактовалась декадентами по-своему. Они считали, что чем меньше у искусства общего с жизнью, тем лучше. Из инструмента познания мира искусство превращалось в способ ухода от него.
Во главе английских декадентов встал Оскар Уайльд.
Свои мнения он облекал в форму афоризмов:
«Хорошо подобранная бутоньерка для петлицы — единственная связь между искусством и природой».
«Всё, что случается в действительности, лишено всякого значения».
«Наслаждение — единственное, ради чего нужно жить».
«Никакое преступление никогда не бывает вульгарным, но всякая вульгарность — преступление».
Приведенные афоризмы, казалось бы, выдают позёра, человека с пустой душой. К тому же, чтобы высказать все эти «истины», глубокого ума не требуется, и нельзя не согласиться с К. И. Чуковским, определившим парадоксы Уайльда как всего лишь «общие места наизнанку». Но прав был и А. М. Горький, который в тех же парадоксах увидел желание шокировать английского буржуа-пуританина, сдернуть с него покров лицемерия. Конечно, славословие порока — не лучший способ борьбы против фальшивой добродетели, и в этом Уайльду пришлось убедиться на собственном примере. Слово у него не расходилось с делом, и он оказался главным действующим лицом грязной истории, о которой потом сам вспоминал с отвращением. «Единственное преимущество игры с огнём состоит в том, что в ней даже не обжигаешься». Это — из парадоксов Уайльда. Но он ошибся. Он не просто обжёгся. Он сгорел. В 1895 году он был присуждён к двум годам тюрьмы по обвинению в гомосексуализме. Остаток жизни он дожил в Париже, в полной нищете, всеми покинутый и, казалось, навсегда вычеркнутый из литературы. Даже свою знаменитую «Балладу Рэдингской тюрьмы» он первоначально сумел напечатать лишь анонимно. Он умер полтора месяца спустя после того, как ему исполнилось сорок пять лет. Светский баловень, певец наслаждения оказался трагической фигурой.
Понимал ли он сам, какие разрушительные силы таились в его отношении к жизни? Бесспорно. Свидетельство тому — его роман «Портрет Дориана Грея» (1891), герой которого становится жертвой собственных пороков. Уайльд словно провидел свою судьбу. И этот декадент не уставал славить такие человеческие качества, как чистосердечие, доброту, самоотверженность. Он был законченным индивидуалистом, и он же доказывал, что полноценное развитие человеческой личности возможно лишь при социализме. Но главное, он был талантливым человеком, настоящим писателем, а искусство живёт правдой. Любой вид искусства. Даже сказка.
Строго говоря, Уайльд сочинил не так уж много сказок. В 1888 году он издал сборник «Счастливый принц и другие сказки», куда в качестве «других сказок» вошли «Соловей и роза», «Великан-эгоист», «Преданный друг» и «Замечательная ракета», а в 1891 году — сборник «Гранатовый домик» («Молодой король», «День рождения инфанты», «Рыбак и его душа», «Мальчик-звезда»). Но почти всё, написанное Уайльдом, тяготеет к сказке. Во всяком случае, к фантастике. Особенно это заметно в «Кентервильском привидении» (1887), занимающем одинаково важное место и в традиции романтической сказки, и в истории английской новеллы. Становление английской новеллы, как известно, весьма затянулось, и этот процесс приобрёл достаточную интенсивность лишь в 80—90-е годы прошлого века, причём новые авторы — Конан Дойль, Честертон, Уэллс, Джером К. Джером и их ближайший предшественник Стивенсон — видели в новелле прежде всего «рассказ о необычном». Для всех этих писателей характерен своеобразный «переход предела привычного», одинаково отличающий фантастику и юмористику и порой открывающий дорогу экзотике. В этом смысле «Кентервильское привидение» полнее всего выражает тенденции времени. Главный герой этой повести пришёл из далёкого прошлого, и она преисполнена юмора и фантастики. По это не просто «юмористическая фантастика», «Кентервильское привидение» ещё и глубоко человечно, хотя, конечно, уровень человечности разных героев разный. Очень порядочный и столь же ограниченный американский посланник, его прикоснувшаяся к культуре жена и столь неожиданная в этой семье девочка, способная чувствовать глубоко и поступать самоотверженно, живут бок о бок с добросовестно исполняющим свои обязанности и не чуждым своеобразного потустороннего артистизма привидением сэра Симона. Живут почти по-семейному. Конечно, отношения в этой семье непростые: супруги Оттисы постоянно суются со своими непрошенными советами и подношениями, не понимая, что тем самым мешают сэру Симону быть настоящим, исправным привидением, близнецы устраивают свои проказы, словно перед ними не почтенное, пользующееся заслуженной славой привидение, а бедный родственник, да и сам сэр Симон хорош: он абсолютно чужд всякой деликатности, гремит цепями по ночам, когда люди спят, крадёт краски для подновления кровавого пятна и вообще выказывает себя существом самодовольным и эгоистичным. Ему бы лишь исполнять свои роли в духе кровавых мелодрам! О «Кентервильском привидении» можно было бы говорить как о рассказе, где показано столкновение старинной романтики и современного практицизма, если б не одно обстоятельство: и старинная романтика выглядит достаточно комично, и современный практицизм. Именно комично, никак не зло. Впрочем, и комизм куда-то уходит к концу рассказа. Во всех героях выявилось самое человечное, что в них было, и повествование завершается на ноте торжественной и патетичной.
Стоит прикоснуться к творчеству Уайльда, и сразу видишь, как писатель побеждает в нём светского куазера. Даже его афоризмы не всегда были просто «общими местами наизнанку». Порой они шли от души и выдавали ум решительный и тонкий. «Мир всегда смеялся над собственными трагедиями, ибо лишь благодаря этому мог переносить их. Следовательно, то, к чему мир относится серьёзно, принадлежит к разряду комедий»,—заявил он однажды, и действительно он превосходно показал комическую подоплёку того, к чему общество относилось вполне серьёзно, и отнюдь не всегда закрывал глаза на трагическую подоплёку иных жизненных комедий. Его произведения, даже самые экзотические, наполнены конкретнейшими деталями. Но, не забывая о внешнем, он умел проникать под поверхность явления.
Многие его сказки гораздо глубже, чем принято думать. Над городом стоит статуя Счастливого принца. Он покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него сапфиры, на рукоятке шпаги сияет крупный рубин. «Какая страсть к декоративности!» — готов воскликнуть читатель, пробежав первые строки. Но сказка Уайльда не о красоте, а о том, сколь неуместной она оказывается на фоне горя и нищеты. И ещё о том, что ради человечности можно отказаться даже от этого, дорогого сердцу поборников эстетизма идеала. Да и только ли от красоты? Когда исчезают рубин, сапфиры, листочки золота, отнесенные беднякам, Принц становится никому не нужен и идёт в переплавку. А у ног его лежит мёртвая ласточка, оставшаяся на зиму, чтобы исполнять его поручения.
Уайльда упрекали за эту сказку в проповеди филантропии. Но послушаем, что сам Уайльд говорил о филантропии в своей статье о социализме: «Благотворительность является или до смешного несоответственной формой частичного восстановления вопиющей несправедливости, или же сентиментальной подачкой, сопровождаемой обычно наглыми попытками со стороны сентиментальных благодетелей распространить свою тиранию на их (бедняков — Ю. К.) частную жизнь. А почему они должны быть благодарны за те крохи, что перепадают им со стола богачей? Они должны были бы принимать участие в самом пиршестве». Нет. «Счастливый принц» — не о филантропии. Герой этой сказки отдаёт не крохи со своего стола, а всего себя.
И, конечно же, полным издевательством над буржуазной филантропией оказывается сказка «Преданный друг», где богатый Мельник, пообещав подарить бедняку Гансу свою сломанную тачку, заставляет его с утра до ночи трудиться на себя, а потом доводит до гибели. Впрочем, «Преданный друг» — не только о филантропии. Это ещё история о лицемерии ходячей морали, о жестокосердии и самоотдаче, о неспособности большинства отличить правду от умело преподнесенной лжи. Это вообще одна из самых злых — несмотря на свою по видимости пасторальную форму — сказок в английской литературе. Тем более что по существу это «сказка без героя». Милый авторскому сердцу добряк Ганс тоже далёк от его идеала. Он слишком послушен. А, по словам Уайльда («Душа человека при социализме»), «неповиновение в глазах всякого, кто только читал историю, есть основная добродетель человека. Прогресс был осуществлён благодаря неповиновению, путем непокорности и мятежа», И очень многое из того, что писал Уайльд, было доступной для него формой непокорности.
Доступной для него — это следует подчеркнуть. В отличие от другого любителя разрушительных парадоксов, вступившего в литературу немногим позже — Бернарда Шоу, он не касался глубоких социальных проблем. Но он в самом невыгодном свете показал людей, рождённых этой действительностью. И противопоставил им не один лишь культ красоты, но и простую человечность. Самым глубоким его убеждением было всё-таки, что красота внешняя не существует без красоты внутренней и злоба, бесчувственность, душевная тупость лишают всякой цены любые, даже самые привлекательные внешние проявления. Зло, которое творил в жизни Дориан Грей, запечатлевалось на его портрете, приобретавшем всё более гнусные черты. Но когда Дориан поразил ножом свой портрет, на нём возродилось прекрасное юношеское лицо человека, еще не вдохнувшего отраву себялюбия и цинизма, а на полу с ножом в груди лежал отвратительный старик. Искусство вернуло себе свою вечную красоту, преступник же предстал во всем своем безобразии. О том же сказка «Мальчик-звезда». Прекрасная внешность волшебного ребёнка оказывается нестойкой под напором злых чувств. Самоотречение же возвращает ему красоту. «Лучше быть красивым, чем добродетельным». Это из афоризмов Уайльда. Но ведь так думают лишь самые пошлые и отталкивающие из его героев!
Сказки Уайльда — те же притчи. В них далеко не всякий раз действуют лица одушевлённые, мораль высказывается достаточно ясно, и если с логикой сюжета кто-то и спорит (скажем, Водяная Крыса или Утка в «Преданном друге»), то отнюдь не для того, чтобы подвергнуть сомнению эту мораль, а лишь для того, чтобы показать, сколь многие стоят на стороне неправды и как часто люди — когда из корысти, когда по ограниченности — закрывают глаза на очевидное. Притча — жанр поучительный. Сказки Уайльда — ещё и разоблачительный.
С Уайльдом в английскую сказку пришло ещё одно иностранное влияние — андерсеновское. По своей художественной фактуре уайльдовские сказки ближе всего к творениям великого датского сказочника. Критика, единодушно приветствовавшая появление сборника «Счастливый принц», сразу это отметила. Не ускользнула от её внимания и сатира на современные английские нравы. Сказки Уайльда показались куда более злыми и горькими, чем сказки Андерсена. Сборник «Гранатовый домик» встретили прохладнее. Уайльду ставили в вину, что он «переэстетизировал» свои сказки, хотя не могли не увидеть и нравственное начало, в них заключённое.
Впрочем, если тяготение к притче и роднит Уайльда с одной из сторон английской сказочной традиции, кое-что его от этой традиции отдаляет. Подчёркнутый гротеск, присущий английской сказке, отталкивал эстета Уайльда. Там, где он не мог его избежать, он старался его смягчить. В понятии «литературная сказка» он столь акцентировал слово «литературная», что могло показаться — он рвёт с английской сказкой, опасавшейся излишней отделанности. Но этот писатель тоже не ушёл от английской традиции. Он преобразовал её.
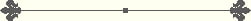
2015– © «Оскар Уайльд»