

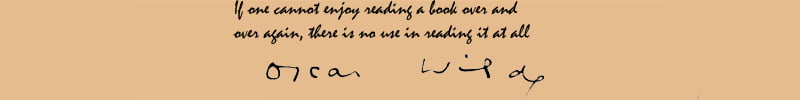
Бартош Н.Ю. «Хармид» Оскара Уайльда: эротическая поэма?
В октябре 1881 г. Оксфордское Дискуссионное общества вернуло Оскару Уайльду книгу его «Стихотворений», которую за несколько недель до этого библиотекарь общества официальным письмом просил у автора. Члены Дискуссионного общества решили, что книга недостойна находиться в библиотеке, а произведения поэта нашли «слабыми и аморальными, полными всех мыслимых недостатков», своим содержанием «роняющими честь нашего древнего университета» [цит. по: Эллман 2000: 177]. И хотя такие выдающиеся личности, как Мэтью Арнольд, Оскар Браунинг и Джон Саймондс, признали поэзию Уайльда «глубокой и искренней», пусть и не свободной от «бунта цветистой юности» [Там же 2000: 178], в целом викторианское общество отнесло автора к «плотской школе поэзии», а его произведения сочли непристойными, вызывающими и чрезмерно чувственными [Gagnier 1997: 23].
Как ни парадоксально, но традиция относиться к ранним произведениям Уайльда с чуть пренебрежительной иронией, при этом признавая заслуги всех его последующих творений, жива и в современном литературоведении. Ричард Эллман, один из самых тонких и глубоких исследователей творчества Уайльда, пишет об этом сборнике как о шокирующем общество своим откровенным эротизмом. Передавая содержание одного из «самых дерзновенных» (по мнению ученого) произведений сборника — «Хармида», Эллман называет его эротической поэмой, описывающей «любовь Хармида к статуе и любовь нимфы к трупу» [Эллман 2000: 172]. Анализируя «эротический» характер поэзии Уайльда, Эллман связывает его с традицией европейской эротической поэзии, восходящей еще к Овидию, а в новое время появляющейся в творчестве Парни.
«Галантным» творениям этого жанра традиционно присущ «легкий эпикуреизм, изящный культ чувственной радости, упоение сладострастием» [Вацуро, Мильчина 1989: 28]. Все эти качества эротических стихов Парни в свое время немало повлияли на европейскую и даже русскую поэзию. Неужели и «Хармид» входит в парадигму так называемой «эротической поэзии», которую обычно предстоит «преодолеть», которой, «повзрослев», стыдятся и которую уничтожают истинные поэты [1].
Рассмотрим сюжет поэмы. Юный грек, рыбак с острова Итака, прибывает в храм Афины. Очарованный красотой статуи — эманации богини, — он пытается вступить с ней в кощунственную связь:
«Кто выдержит любовной пытки пламя?/ Он близко-близко подошёл — и дерзкими руками/ Доспехи отстегнул ей, снял хитон,/ И обнажил нетронутые груди,/ И пеплос развязал; увидел он,/ Чего еще не видывали люди…» [2]
(«For whom would not such love make desperate? /And nigher came, and touched her throat, and with hands violate/ Undid the cuirass, and the crocus gown,/ And bared the breasts of polished ivory,/ Till from the waist the peplos falling down/ Left visible the secret mystery/ Which to no lover will Athena show…») [Уайльд: 2000: 146; Wilde: 1919: 17] [3].
После святотатственного ритуала юноша убегает в лес и засыпает у ручья, где его застают дровосеки. Хармид, переживший «грех любовный» («a lover's sin» [Уайльд: 2000: 147; Wilde 1919: 18]), настолько красив, что дровосеки принимают его за лесное божество (Гиласа, Нарцисса), а затем и за самого Диониса [см. Уайльд: 2000: 149-150; Wilde 1919: 23-24]. Но юноша просыпается, месть богини страшит его, и он пускается в дальнейшее плавание: «Но ждал герой у роковой черты,/ Что боги призовут его к ответу/ За мрамор беспощадной чистоты, / За девственность безжалостную эту…» («Ready for death with parted lips he stood, / And well content at such a price to see / That calm wide brow, that terrible maidenhood,/ The marvel of that pitiless chastity… ») [Уайльд: 2000: 145; Wilde 1919: 16].
Афина в облике гигантской совы застает Хармида на корме корабля и сбрасывает в пучину. Юноша гибнет. Тритон и русалки приносят его все еще прекрасное тело в маленькую лесную заводь, где обитают нимфы-дриады. Одна из дриад влюбляется в мертвого юношу. Она пытается оживить его своей любовью: целует губы, ласкает волосы и руки, не ведая, как замечает Уайльд, что ее возлюбленный уже три дня как повстречался с Персефоной («eyes had looked on Proserpine») [Уайльд 2000: 157; Wilde 1919: 39]).
Когда всходит луна, нимфа осознает «холодность» своего возлюбленного. Она громко рыдает, на этот плач появляется жестокая девственная Артемида, которая убивает нимфу своими стрелами. Дева умирает, проклиная не богиню, а собственную невинность:«…И дева умерла, не испытав/ Веселье страсти; страшной этой тайны/ В себе не пережив и не познав, / Считай, что были дни твои случайны»
(«…And very pitiful to see her die/ Ere she had yielded up her sweets, or known/ The joy of passion, that dread mystery/ Which not to know is not to live at all») [Уайльд 2000: 165; Wilde 1919: 54]
В это время по небу пролетает Киприда — богиня любви Афродита. Она погребает прекрасные тела Хармида и Нимфы на Пафосе, а затем упрашивает Персефону позволить Эроту- Страсти спуститься в безлунную долину Ахерона («moonless Acheron» [Wilde 1919: 61]), место, где в вечной печали пребывают души, где нет любви. И только с появлением Эрота «унылая» душа Хармида оказывается способна к познанию истинной любви:
«Он обернулся: то была она;/ И было их на свете только двое;/ И накатила теплая волна…» («Then turned he round his weary eyes and saw,/ And ever nigher still their faces came,/ And nigher ever did their young mouths draw…») [Уайльд 2000: 170; Wilde 1919: 64].
Поэма заканчивается сценой суда Персефоны. Казалось бы, в тексте довольно эпизодов, которые целомудренный читатель мог бы счесть «чувственными». Однако анализ дальнейших произведений Уайльда (сказок, пьес, романа) позволяет говорить о том, что писатель выстраивает свои произведения по принципу многоуровневого смыслового пространства, где есть то, что лежит на поверхности, и есть символ («All art is at once surface and symbol» [Wilde 1994: 6]).
На первом уровне — surface — произведение уподобляется зеркалу, воспроизводя лишь то, что от него «ожидает» читатель — набор готовых штампов и форм. Это связано, прежде всего, с тем, что Уайльд рассматривает свое произведение не в иллюзионистском (миметическом), а в эстетическом ракурсе, встраивает произведение в парадигму знакомых читателю текстов или произведений искусства. Кроме того, писатель предлагает читателю более глубокий уровень прочтения — символический (symbol). С помощью художественно-выразительных средств (тропов, ассоциативных ходов и других приемов эстетической игры) предметы и образы в произведениях Уайльда разворачиваются в знаковый ряд, который открывает духовному восприятию зрителя происходящее в контексте символического восприятия мира. Изящно выстроенные образы героев или окружающие их предметы обретают символико-эмблематический смысл, притягивающий к себе содержательные смыслы повествования.
Скрупулезный анализ образов-символов поэмы, которые являются своеобразными «ментальными узелками» [4], позволит понять скрытые значения поэмы. Прежде всего следует обратиться к образу Хармида — главного героя поэмы. Образ юноши необычайной красоты, влюбленного в богиню, гибнущего и «возрождающегося» по ее воле, станет базовым при формировании образной системы писателя.
Уайльд считал, что в современном искусстве прекрасное обладает не абстрактным принципом некой универсальной формулы, а носит конкретный чувственно-предметный характер и персонифицируется в образе прекрасного юноши — своеобразном образе-лейтмотиве его творчества [5]. Образ прекрасного юноши как совершенное воплощение идеи прекрасного не является собственным «изобретением» Уайльда. Он творчески воспринял и продолжил европейскую традицию, берущую начало ещё с античности. В диалогах «Пир» и «Федр» Платон утверждает, что идея высшей красоты имеет вещественное конкретно- чувственное представление: для достижения «прекрасного самого по себе» [Conv. 211e] необходимо преодолеть все ступени ее земного познания. В этих текстах философ указывает на образ прекрасного юноши как на идеальное воплощение красоты видимого мира. Для Платона прекрасный юноша выступает в качестве некоего символа — эйдоса, который напоминает душе о существовании мира идеальных сущностей, а также указывает истинный путь духовного становления: «… когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь» [Phaedr 249d].
В английской литературе к образу прекрасного юноши как к идеальной форме Прекрасного обращались Шекспир, Мильтон, Байрон, Китс и даже Диккенс. Молодой человек необычайной красоты оказывался носителем разных внешних и внутренних качеств. Каждая эпоха переосознавала и переосмысливала этот образ, наделяя его этическими и эстетическими свойствами своего времени, оставляя неизменной только заложенную в нем основную концепцию. Зарождающийся в последней четверти XIX в. стиль модерн стремится передать в этом образе идею рождения, пробуждения, чувственного порыва, юности, пробуждающейся после материалистическо-позитивистской «спячки» культуры [6].
Образ прекрасного юноши появляется уже в первых поэтических произведениях Уайльда, в самый ранний период его творчества (конец 1870-х — начало 1880-х гг.). Обращение писателя к античному сюжету в поэме «Хармид» [7] и его стремление «вписать» героя в мифологический контекст неслучайны. Прежде всего они связаны с желанием представить мифологическое мироощущение эпохи через образ, кажущийся Уайльду-эстету идеальным для обретения совершенной формы прекрасного, которое позволило бы выйти за рамки эстетического пространства, преобразить и преобразовать действительность.
Создавая образ Хармида, Уайльд сравнивает его с цветами нарцисса, гиацинта, анемона. Через изысканные флоральные метафоры поэт семантически соотносит героя с архетипом умирающего-воскресающего бога, который в античной мифологии проявляется в одноименных образах юношей-героев (Нарцисс, Гиацинт, Адонис) [Мифы народов мира 1991–1994, т. 2: 547– 548].
Уайльд репрезентирует образ героя в одной из древнейших праформ данного архетипа — вавилонском боге-пастухе Таммузе, возлюбленном богини Иштар, который по воле богини приносится в жертву миру мертвых и возрождается из него (символами-эмблемами Таммуза наполнена первая часть поэмы, а в последней Уайльд вспоминает об оплакивании Таммуза: «…и лишь внизу, во всю взывая мочь,// «Таммуз!» — молящегося глас тревожил эту ночь»
(«…Till the faint air was troubled with the song// From the wan mouths that call on bleeding Thammuz all night long») [Уайльд 2000: 168; Wilde 1919: 58].
С другой стороны, Уайльд соотносит «святотатственные» действа юноши с культовыми ночными триетериями [8] оргиастического бога Диониса. С Дионисом и его дериватами (Гиласом и Нарциссом), как было отмечено, сравнивают Хармида и «наивные» наблюдатели — дровосеки.
Пребывание Хармида в ночном храме соотносится с мифологическим мотивом «нисхождения в иной мир». «Нисхождению» героя предшествует обряд жертвоприношения, где каждая жертва (кабан, олень) — символ-фетиш прекрасных возлюбленных богини (Адониса и Актеона), а подробно описанное Уайльдом принесение в жертву «первенца из пастушьего стада» («The firstling of their little flock») [Уайльд 2000: 142; Wilde 1919: 12] — жертвоприношение самого Диониса. Захлопнувшиеся на ночь ворота храма («…И грозный стражник, служащий при храме, // врата латунные закрыл могучими руками»; «…and with stout hands the warder closed the gates of polished brass» [Уайльд 2000: 143; Wilde 1919: 13]) — символические врата в царство мертвых, эквиваленты медных врат, через которые спускается в преисподнюю богиня Иштар для обретения бессмертия.
Таким образом, сцена в ночном храме — не святотатство, а инициация героя, ритуальное сочетание с Великой богиней [9]. В интерпретации Уайльда кощунственная связь юноши с изваянием воспринимается как своеобразный обряд посвящения-преображения из человеческой сущности в божественную. Уайльд наглядно описывает, что после оргиастического «таинства» герой обретает «не-человеческий», иератический статус, явленный в необыкновенной красоте юноши. Залитый лунным светом храм семантически обозначен не только как зона владычества Афины, но и всей триады греческих лунных богинь: Артемиды, Афины и Афродиты, принимающих участие в судьбе Хармида. Луна — эманация Великой богини — сопровождает действия всех трех богинь поэмы, Уайльд подчеркивает, что нет ее только в царстве Персефоны.
Плавание Хармида на корабле объясняется не только желанием юноши укрыться от гнева богини, но и тем, что, являясь эманацией божества дионисийской природы, он распространяет свою энергию как на земную природу, так и на морскую стихию [10]. Хармиду присущи черты солнечного бога. Скитанию юноши по морю и его последующей гибели в пучине соответствуют сюжеты многочисленных мифов о плавании солнца, солнечном корабле или ладье и о схождении солнечного бога в преисподнюю. Отношения уайльдовского героя с богиней могут быть интерпретированы через архаическую схему «любви — поединка» солнечного божества с водой/преисподней: погружаясь в «воду/преисподнюю», солнечный бог не гибнет, а обновляется [11]. В мифах вода является космогоническим символом, способствующим «новому рождению», исцелению, получению бессмертия. Поэтому погружение Хармида в морскую пучину — это не гибель юноши, а, с точки зрения мифологической семантики произведения, «упразднение прошлого, восстановление <…> первозданной неповрежденности» [Элиаде 1999: 189] [12].
Влюбленная в тело Хармида дриада — воплощение его души, не способной соединиться с телом, обновленным после инициации. Смерть дриады от стрелы Артемиды воспринимается как «очередная» смерть Хармида в цепи его «умираний-воскресений». Вписывая героя в мифологическую парадигму умирающих-воскресающих богов, Уайльд заставляет читателя изменить точку зрения на содержание поэмы: «несколько рискованный» сюжет «любовь Хармида к статуе и любовь нимфы к трупу» [Эллман 2000: 172] в мифологическом контексте прочитывается как сюжет о священном браке умирающеговоскресающего бога с Великой богиней.
В каждой из частей (явлений) поэмы перед героем по очереди предстают три богини как три ипостаси единого архетипа Great Goddess.
Уайльд отмечает, что «встреча» юноши с богинями — мистерия, подобная таинству спора богинь, в котором участвует Парис. В ней все те же участницы: «девственница Афина», «нимфа Афродита» и только «старуху Геру» (губительницу героев) поэт заменяет на «убийцу» Артемиду [13].
Таким образом, сопоставляя Хармида с троянским царевичем, поэт делает его (а вместе с ним и читателя [14]) судьей в череде явлений богинь.
Остановимся на функциональной сущности каждой из богинь.
Первую и главную роль среди них Уайльд предоставляет Афине [15]. Кощунственная связь Хармида с ее изваянием воспринимается как негативный дериват священного брака. Афина — богиня-девственница [16], силой и мудростью она равна Зевсу [Гесиод 2001]. Эта «мужеподобная» олимпийская богиня не несла функции плодородия, поэтому не участвовала в оргиастических обрядах, а воспринималась как «символ целостности и космической мудрости» [Иванов 2000: 104]. Афина «требовала к себе священной почтительности, ни один смертный не мог её увидеть» [Мифы народов мира 1991–1994, т. 1: 125], не говоря уже о том, чтобы посягнуть на ее девственность…
Недоумение вызывает и то, что в образе мудрой дочери Зевса в античной культуре отсутствует традиционная женская красота. Используя в поэме сюжет Лукиана о любви некого юноши к статуе Афродиты Книдской [17], Уайльд, казалось бы, игнорирует специфику скульптурных изображений двух богинь: в отличие от нагой Афродиты, Афина изображалась в полном боевом облачении [18]. Однако статуя Афины Парфенос (Афины-Девы) была выполнена Фидием в хрисо- элефантинной технике, т. е. позволяла богиню «обнажить». Статуя состояла из деревянного каркаса, на который наклеивались пластины из слоновой кости, передававшие обнажённое тело; из золота исполнялись одежда, оружие, волосы [19].
Скорее всего, именно Афину Парфенос имеет в виду Уайльд, описывая иконографический ряд богини и сцену ее «обнажения». Проведя столь скрупулезные «археологические» (выражение Уайльда. — Н. Б.) поиски источника образа богини в поэме, не упомянули только об одном: общий размер статуи был около 13 м, поэтому даже двухметровая скульптура Ники на руке у Афины-Девы казалась крошечной. Тем более абсурдной показалась бы страсть изящного юноши к гигантской богине. Однако для Уайльда «достоверность» событий никогда не являлась эстетическим критерием произведения.
Вновь обратимся к образу героя и рассмотрим его в так называемом культурном контексте, которым так дорожил писатель. Имя Хармид принадлежит герою одноименного платоновского диалога. Весь диалог, пересказанный от лица Сократа, посвящен теме «софросины», т. е. целомудрия, которое у Платона соответствует «сдержанной целостности ума» [20]. Хармид — юноша необыкновенной красоты, соответствующей, по мнению Сократа, красоте душевной, — стремится к постижению «софросины» для обретения всей полноты античного понятия «прекрасного». В диалогах Платона Хармид с его прекрасной внешностью [21], благородством происхождения, ума и поступков становится символом так называемой калокагатии [22], т. е. внешнего и внутреннего совершенства. Следует отметить и то, что родиной своего героя Уайльд делает Итаку, семантически сопоставляя Хармида с любимцем Афины — царем Итаки «многоумным» Одиссеем [23].
В стихотворении Humanitad, напечатанном в одном сборнике вместе с «Хармидом», поэт утверждает, что сам предпочитает Афину Афродите:
«Я весь Ее, которая — ни с кем,/ Чью неприступность лик Горгоны охранит…» [24]
(«I am Hers who loves not any man/ Whose white and stainless bosom bears the sign Gorgonian…» [Уайльд 2000: 230; Wilde 1994: 89].
Биографы Уайльда отмечают его студенческие размышления на тему смысла философии и созерцательной жизни (отголоски этих размышлений появляются в «Ренессансе»). В этот период (1877–1881 гг.) Уайльд называет философию «вершиной души» и связывает ее с образом Софии-Премудрости («Как девственница, посвященная Богу, она не дает никакого плода. Ее дело — воспринимать мир, а не улучшать его») [цит. по: Эллман 2000: 122].
Во время создания поэмы Уайльд принимает активное участие в Оксфордских масонских ложах, ложе Аполлона и т. п. Анализ взаимодействия образов-мифологем Хармида (ипостаси дионисийского божества) и Афины (в функции Великой богини) был бы не полон без упоминания роли, какую эта богиня играет в сакральном убиении бога: после того, как титаны разрывают тело божественного младенца Диониса, Афина- мудрость погребает его сердце под горой Парнас [Грейвс 1992: 191]. Этот мифологический эпизод упоминается Парменидом и позволяет уже неоплатоникам, а в ХХ в. культурологам и поэтам писать о «символической экзегезе отношения божественной мудрости к страстям страдающего бога» [Иванов 2000: 104]. Афина — «промышление Зевесово» — «спасает от титанического разделения цельным и неделимым божественный разум» [Там же].
Сочетание юноши с Афиной воплощает, по мнению автора, мистериальный союз красоты с Премудростью, а так называемые «чувственные» сцены поэмы, за которые Уайльд претерпел немало упреков от обывателей, — это, прежде всего, аллегории «эротического восхождения», путь, ведущий «от чувственного к умопостигаемому».
Попытка «овладения» богиней семантически приравнивается к поиску платоновским Хармидом «софросины». Однако, как уже было отмечено, брак с Афиной дает герою Уайльда новое «возрожденное» тело, но не душу.
Проанализируем образы и других античных богинь — ипостасей архетипа Великой богини, появляющихся в тексте поэмы. Артемида — это фракийская дева-охотница, сестра и двойница бога искусства и гармонии светоносного эллинского Аполлона, мифологема которой восходит к «многоименной оргиастической богине» [Там же: 100]. Артемида убивает дриаду-душу, так как она в своей «лесной», хтонической природе негармонична и не соответствует «обновленному» телу героя. Тем самым богиня избавляет юношу от «вечных» стенаний души. Отметим, что в античном сознании плач выражает несвободу и является признаком животного начала в человеке [Аверинцев 2005: 36].
Если в образе Артемиды Великая богиня убивает душу Хармида, то «встреча» души с третьей ипостасью богини в образе Афродиты дает возможность Хармиду возродиться во всей целостности. Тот факт, что богиня любви в тексте поэмы заботится не о плотских чувствах, а о телах влюбленных [25], должен показать читателю, что перед ним не «пестропрестольная» [Conv. 180d] Афродита Пандемос (т. е. «всенародная»), а ее божественный двойник — Афродита Урания. Она переносит действие с одной пространственной зоны — земного мира (подлунного) — в «иной» мир «чистой идеальности», так как «все подлинное и достойное пребывает в своей чистой идеальности, за пределами этого нашего мира» [Соловьев 1988, т. 2: 602]. Только Афродита Небесная может упросить владычицу этого мира, Персефону, позволить Эроту-Страсти [26] перевести через ледяной брод Харона Душу- возлюбленную.
Таким образом, последняя часть поэмы — мистериальное обретение божественной целостности — «софросины», которая воплощается для Уайльда в «эротическом» соединении души и тела прекрасного Хармида. Поэт не называет его «возлюбленную», но сравнивает их соединение с пылающей мистической розой: «И розой пламя вспыхнуло живое…» («they seemed one perfect rose of flame») [Уайльд 2000: 170; Wilde 1919: 64].
Встречи юноши с богинями (воспринимаемые через кодовый ряд священного брака), описания его «эротических утех» в храме и долине Ахерона оказываются лишь символами- эмблемами, сквозь которые должен «прорваться» «умный» читатель. Тогда ему открывается не «опасная двусмысленность» плотских сцен поэмы, а будущая эстетическая концепция Уайльда, которая строится на сочетании-браке двух классических категорий: творчества (космогонии) и красоты (прекрасного). В мифотворческом сознании fin de siecle они соответственно реализуются через фигуры Великой богини и растительного умирающего-воскресающего бога. Их мифологическое сочетание — брак — важно для художественного сознания модерна, поскольку именно в нем прекрасное становится основным мироустроительным принципом, на котором базируется космогония, т. е. создается эстетический универсум, в котором преодолевается хаос обыденного, а образы и поступки героев обретают сакральный иератический статус.
Примечания
1. К такой поэзии принадлежат и «Гаврилиада» Пушкина, и раннее творчество Батюшкова, и многие другие поэтические творения.
2. Здесь и далее перевод Е. Д. Фельдмана.
3. В дальнейшем цитирую данные издания с указа- нием страниц в тексте работы.
4. Определение М. Н. Соколова.
5. «Мы многим обязаны Гете, его великой эстетиче- ской чуткости; он первый нас научил определять кра- соту как нечто чрезвычайно конкретное, постигать ее не в общих, а в отдельных, частичных ее проявлениях <…> Воистину, от сочетания эллинизма, широкого, здравомыслящего, спокойно обладающего красотой, — с усиленным напряженным индивидуализмом, окрашенным всей страстностью романтического духа, — от этого сочетания и рождается современное английское искусство, как от союза Фауста с Еленой Троянской родился прекрасный юноша Эвфорион»
(«Among the many debts which we owe to the supreme ?sthetic faculty of Goethe is that he was the first to teach us to define beauty in terms the most concrete possible, to realize it, I mean, always in its special manifestations <…> It is really from the union of Hellenism, in its breadth, its sanity of purpose, its calm possession of beauty, with the adventive, the intensified individualism, the passionate colour of the romantic spirit, that springs the art of the nineteenth century in England, as from the marriage of Faust and Helen of Troy sprang the beautiful boy Euphorion ») [Уайльд 2000: 257-258; Wilde 1994: 112]
6. См. работы Дж. Уистлера, Ф. фон Штука, Л. фон Хофмана, Ф. Ходлера, Г. Минна, К. С. Петрова- Водкина, А. С. Голубкиной, А. Матвеева и др. Особую роль в оформлении образа прекрасного юноши в модерне играют бесчисленные вариации бронзовых и мраморных любовников Родена, начиная со знаменитого пробуждающегося юноши («Бронзовый век» 1876), «Адама» (1880) и заканчивая знаменитыми «Поцелуями» (первоначальный вариант 1886), предназначенными для «Врат Ада».
7. Поэма была написана Уайльдом в конце 1870-х годов, но достоверно известна только точная дата ее публикации — 1881 г.
8. Триетерий — праздник в честь Диониса, который справлялся в Фивах каждую третью зиму (по числу лет пребывания Диониса-Салмоксида в земле).
9. Великая богиня — Матерь всего сущего, дарующая своим сыновьям-возлюбленным жизнь, познание чувственной любви, а также смерть — ритуальное жертвоприношение ради их вечного иератического возрождения. Со временем функции Великой Матери (рождения и питания, познания чувственной любви, а также уничтожения или смерти) получают воплощение в трех ипостасях Великой богини: Деве (символизирующей Прекрасное), Матери (дающей Жизнь) и Старухе (несущей Смерть). Некогда единый образ становится трехликим и реализуется в образах трех богинь судьбы (мойр, парок, норн), которые прядут, созидают и, наконец, обрезают нить человеческой жизни, а также различных ипостасях единого божества. [Мифы народов мира 1991, т. 1: 179].
10. Фрэзер, ссылаясь на Павсания, называет Диониса «истинным владыкой стихии влажной, шествующим по водам» [Фрэзер 1998: 85]. О культе Диониса морского см.: [Фрэзер 1998; Иванов 2000; Грейвс 1992; и др.].
11. Анализируя архаические погребальные обряды, Элиаде пишет, что Солнце «становится прототипом “мертвеца, каждое утро встающего заново” <…> в отличие от Луны солнце обладает исключительным правом проходить через преисподнюю, не будучи в состоянии смерти» [Элиаде 1999: 137].
12. Ритуальная логика «возрождения водой» связана и с античной традицией погружения в воду статуй богинь, что обеспечивало обновление и обильный урожай. Ср. «Купание» Афродиты, возвращающей таким образом свою девственность. Кроме того, он связан и с мотивом «исцеления» — оживления: Эрешкигаль, богиня подземного мира, окропляет живой водой тела Иштарь и Таммуза и тем самым вызывает их к новой жизни, раскрывая врата преисподней.
13. См. о мистериях, связанных с «судом Париса». Грейвс представляет Париса как верховного «царя- жреца», который, являясь ипостасью Диониса, «оставался возлюбленным царицы благодаря ежегодному принесению в жертву ребенка» …«“цветущий” — титул весеннего Диониса, который получали несчастные царевичи, как бы “срезанные” в расцвете жизни» [Грейвс 1992: 13, 468-475].
14. В эстетике модерна читатель является не только немым свидетелем разворачивающихся событий, но и активным участником. Он словно втягивается в игровое пульсирующее пространство художественного произведения.
15. Одно из самых выразительных воплощений этого образа в модерне — «Афина Паллада» (1898) Г. Климта. Закованная в доспехи, потрясающая копьем, богиня Разума несет голову Горгоны и нагую женскую сущность — Истину на груди, тогда как темные ночные образы-химеры являются у нее за спиной.
16. Лосев считал, что «Афина мыслилась как судьба и Великая богиня-мать, которая известна в архаической мифологии как родительница и губительница всего живого» [Мифы народов мира 1991–1994, т. 2: 125].
17. Афродита Книдская (350–330 гг. до н. э.) — одна из наиболее знаменитых работ Праксителя, которую Плиний называл «выше всех произведений не только Праксителя, но вообще существующих во вселенной» [Плиний 1994: 54]. Статуя изображает полностью обнажённую женщину, прикрывающую лоно правой рукой. Искусствоведы относят её к категории Venus Pudica (Венера Стыдливая).
18. Самые знаменитые изображения богини были сделаны греческим скульптором Фидием (490–430 гг. до н. э.). Афина Парфенос — последнее творение Фидия — была создана мастером в 447–438 гг. до н. э. Известна по копиям и описаниям.
19. Эта скульптура богини пользовалась невероятной славой. В диалоге Платона «Гиппий» Сократ ссылается на Афину Парфенос для дефиниции понятия прекрасного. Древнегреческий писатель и географ Павсаний (II в.) оставил такое описание статуи Афины Парфенос: «Сама Афина сделана из слоновой кости и золота <…> у нее на груди голова Медузы из слоновой кости, в руке она держит копье. В ногах у нее лежит щит, а около копья — змея <…> Шлем богини имел три гребня (средний со сфинксом, боковые с грифонами)» (курсив мой. — Н. Б.) [Павсаний 1996: 7].
20. См. комментарий и примечания к диалогу А. А. Тахо-Годи [Платон 1986].
21. Сократ так описывает юношу: «Я-то, мой друг, здесь совсем не судья <…> И все же он мне представился тогда на диво прекрасным и статным, и показалось, что все остальные в него влюблены <…> никто <…> не смотрел более никуда, но все созерцали его, словно некое изваяние» [Платон 1993, т. 2: 154].
22. Калокагатия (греч. сalos — «прекрасный», agathos — «добрый») — одна из древнейших категорий античной эстетики. Последовательное развитие этой категории дает в своих диалогах Платон, который считает, что «калокагатия <…> есть соразмерность души и тела» (см.: [Лосев, Шестаков 1965: 100–110]).
23. Перевод Е. В. Витковского.
24. Лосев считает, что его титул «многоумный» «включает всю гамму переходов от элементарной хитрости к выработке сложнейших интеллектуальных построений» [Мифы народов мира 1991–1994, т. 2: 243–244].
25. В греческом сознании одним из важнейших условий получения посмертного воздаяния является необходимость погребения героя (см. Приам, целующий руки убийцы Гектора — Ахилла за то, что он со- глашается вернуть ему растерзанное тело).
26. «Явилась сила средняя между богами и смертными — не бог и не человек, а некое могучее демоническое и героическое существо. Имя ему Эрот, а должность — строить мост между небом и землей и между ними и преисподней. Это не бог, но естественный и верховный священник божества, т. e. посредник <…> строитель моста, — разумеется, не через обыкновенные реки, а через Стикс и Ахерон, через Флегетон и Коцит» [Соловьев 1988, т. 2: 602].
Список литературы
1. Аверинцев С. С. Другой Рим: Избранные статьи. СПб.: Амфора, 2005.
2. Вацуро В. Э. , Мильчина В. А. Французская элегия XVIII–XIX веков // Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры / сост. В. Э. Вацуро; вступ. ст. и коммент. В. Э. Вацуро и В. А. Мильчиной. М.: Радуга, 1989. С. 27-48.
3. Гесиод. Полное собрание текстов. / пер. с древнегреч. / под ред. О. П. Цыбенко и В. Н. Ярхо. М.: Лабиринт, 2001.
4. Грейвс Р. Мифы Древней Греции / пер. с англ. К. П. Лукьяненко / Под ред. и с послесл. А. А. Тахо-Годи. М.: Прогресс, 1992.
5. Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 2000.
6. Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1965.
7. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976.
8. Мифы народов мира: Энцикл.: в 2 т. М.: Сов. энцикл., 1991-1994.
9. Павсаний. Описание Эллады: в 2 т. / пер. с древнегреч. С. П. Кондратьева; под ред. Е. В. Никитюк. СПб.: Ладомир. 1994.
10. Платон. Диалоги / пер. с древнегреч. Шейнман-Топштейн. М.: Мысль, 1986.
11. Плиний Старший. Естествознание: Об искусстве / пер. с лат. Г. А. Тароняна. М.: Ладомир. 1994.
12. Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // В. С. Соловьев Соч.: в 2 т. / сост., общ. ред. и вступ. статьи А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги; примеч. С. Л. Кравца, Н. А. Кормина; АН СССР, Ин-т философии. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 582-625
13. Уайльд О. Полное собрание стихотворений и поэм / пер. с англ.; предисл. и сост. Е. В. Витковского. СПб.: Евразия, 2000.
14. Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / пер. с англ. М. К. Рыклина. М.: Лабиринт, 1998.
15. Элиаде М. Избранные сочинения: Очерки сравнительного религиоведения / пер. с англ. В. Р. Рокитянского; вступ. ст. Ж. Дюмезиля. М.: Ладомир, 1999.
16. Эллман Р. Оскар Уайльд: Биография / пер. с англ. и сост. аннот. указателя Л. Мотылева. М.: Независимая газета, 2000.
17. Gagnier R. Wilde and the Victorians // The Cambridge Companion to Oscar Wilde / ed. by P. Raby. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Р. 18-33.
18. Wilde O. Charmides in Charmides and other poems. London: Methuen & Co. Ltd., 1919.
19. Complete works of Oscar Wilde. Glasgow: Harper Collins, 1994.
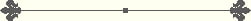
2015– © «Оскар Уайльд»