

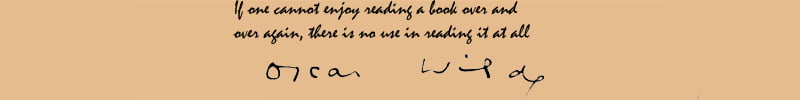
Лион Фейхтвангер - "Генрих Гейне и Оскар Уайльд"
Принимаясь за это исследование, я не ставил своей целью разыскивать в сочинениях Гейне новые, до сих пор неизвестные источники творчества Уайльда. Я хотел лишь провести параллель между двумя художниками, параллель, которую, насколько мне известно, никто до сих пор не проводил, и которая, возможно, поможет понять психологию обоих писателей.
Ибо какими бы различными на первый взгляд они ни казались — беспомощный, беспокойный еврей, несмотря на свою светскость так неприспособленный к повседневности, и аристократически небрежный, подчеркнуто светский англичанин, — мы при более глубоком исследовании обнаружим, однако, так много общего в их стиле и мастерстве, так много знаменательного сходства в положении, занимаемом ими в литературе, что сопоставление этих двух писателей уже не будет расцениваться как шутка, не имеющая под собой никаких оснований.
1. Общее в стиле
Прежде всего — оба писателя отличаются друг от друга по образу жизни. Вот Генрих Гейне — несмотря на его стремление к блеску и роскоши, несмотря на его легкомысленную, цыгански хвастливую болтовню удачи редко сопутствуют ему, он всегда педантично расчетлив, в лучшие свои годы едва ли может позволить себе потратить на домашнее хозяйство столько, сколько Уайльд готов выбросить ради мимолетного каприза, человек, которому иной раз так и хочется кинуть упрек: «Propter vitam vivendi perdere causas»[1] (ради земной жизни предать высшие цели — лат.) и Оскар Уайльд, блистательный king of life, grand viveur (король жизни. — англ.; жуир. фр.), ослепительный законодатель мод, который, располагая огромными доходами (до 9000 фунтов ежегодно во времена творческого подъема), никогда не мог навести порядка в своих денежных делах, жизнь которого до внезапной и ужасной перемены[2] представляет собой цепь изысканнейших, расточительнейших наслаждений.
Вот Генрих Гейне — он очень хотел играть роль светского человека и никак не мог преодолеть в себе унаследованные от отца черты мелкого буржуа, и Оскар Уайльд — истинный денди, бесспорный король лондонских и парижских салонов, олицетворение всего светского.
Вот Генрих Гейне, насквозь fanfaron de vice (человек, думающий о себе хуже, чем он есть на самом деле. фр.), честное, традиционное стремление к морализации обнаруживается во всем написанном им, и Оскар Уайльд, начисто лишенный совести, которого плохо маскирует его во многом противоречивое письмо из тюрьмы, обычно неправильно именуемое нами как De Profundis (заупокойный католический гимн: от первых слов «Из глубин…» лат.).
Вот Генрих Гейне — человек с предвзятыми мнениями, вся его жизнь — живая передовица, всегда что-то защищающий всем теплом своей души, и Оскар Уайльд — холодная натура, преданная одному лишь искусству, противопоставляющий любой политике, любой тенденциозности ледяное равнодушие, никогда не стремящийся кого-либо переубедить, снисходящий лишь до высказывания своего мнения.
И все же, несмотря на все эти различия, чувствуется известная общность, нечто роднящее две эти индивидуальности.
Источник трагического в характере обоих писателей — один и тот же. Трагичным в сущности Гейне мне представляется раздвоение между его большим, болезненным стремлением к сильной абсолютной вере и горьким скептицизмом, разрушающим все чисто эмоциональное. Всю свою жизнь Гейне искал идеал, к которому смог бы со всей страстной самоотреченностью прилепиться; но каждый раз эту, находящуюся в поре своего первого цветения веру разрушал его едкий критицизм. Так шестнадцатилетний мальчик бросился в объятия туманного мистицизма[3] с католическим налетом, так юноша внушил себе байроническую страсть к своей кузине, так берлинский студент увлекался национально-еврейскими бреднями, так парижский литератор носился с различными политическими утопиями. Все эти идеалы, однако, не смогли устоять перед его оценивающим разумом, все они гибли под натиском его саркастического ума.
Так же, как у многих культурных евреев девятнадцатого столетия, сатирические мысли обвивали любое его чувство, чтобы затем задушить его в своих отравленных объятиях. По-видимому, писатель сам очень ощущал эту мучительную двойственность своей души. Ибо пронизывающая все его творчество раздвоенность между идеями Назареев и мифом о Елене Прекрасной — что же это как не антагонизм между романтически иронизирующим критицизмом и гармонически наивным, самоуверенным идеализмом, антагонизм, который он, пожалуй, чувствует, но никогда не в состоянии примирить? И о чем ином возникает печальная песнь о никогда не угасающем стремлении к чудесному острову Бимини[4], как не об этом, самом горячем, сладостном и мучительном желании примирения? Гейне сам себе дал удивительно точную характеристику, сказав однажды об Ари Шеффере[5], что все его произведения «представляют собой эфемерное стремление — взгляд из мира земного без настоящей веры в мир потусторонний — туманный скептицизм». Эта жажда целостности, религии, гармонии индивидуума является основным ядром в сущности Гейне. Это стремление с перебитыми крыльями, стремление, угасающее в печальной разочарованности, является в его сущности действительно трагичным.
Пожалуй, с обывательской точки зрения было бы правильным утверждать, что основная характерная черта Оскара Уайльда — аффектация, что его любовь к искусству — не что иное, как игра. Однако такое объяснение нас не удовлетворяет, оно принижает, омещанивает задачу, делает ее банальной и не приближает нас к решению вопроса. Мы не решили бы его и в том случае, если бы под влиянием дурманяще сладостного красноречия Гофмансталя[6] пытались показать, что трагичное у Оскара Уайльда заключается в сумеречно- жутком предчувствии ужасной перемены в своей судьбе, в зловещем, смутном ожидании, едва ли не перешедшим в желание, того внезапного падения, которое жестоко изменило течение его жизни, подобно тому, как предсказания оракула — течение жизни Эдипа.
Я более склонен думать, что трагическая основа сущности Уайльда — та же, что и у Гейне, — никогда не утихающая, вечно сжигающая жажда гармонии, религии, цельности индивидуума. Острый, безжалостный ум писателя с неопровержимой ясностью показывает ему вопиющие противоречия его жизни, фрагментарность его характера. Он ищет средства уйти от этого мучительного сознания, он ищет веру, к которой мог бы прилепиться; он внушает себе уверенность во всемогуществе искусства, освобожденного его адептами и жрецами от несовершенства бытия. Он страдает, он высмеивает, он принижает действительность. Перед невероятной отвагой его атак «факты бегут словно дикие звери от охотника». «Чтобы уйти от страданий жизни, он становится зрителем своей собственной жизни» («Дориан Грей»), «свою жизнь он подменяет искусством, пытается, используя красоту, сделать себя совершенным». Он бежит от пустоты своей жизни в искусство. Но ему приходится признать, что и здесь страстное желание, цель, к которой он стремится, не приводит к покою, и в часы таких мучительных, полных отчаяния прозрений оскорбленная, униженная действительность мстит своему поработителю, с издевательской жестокостью погружает его в омерзительную клоаку, принуждает его осквернить себя, как осквернил себя Дориан Грей, ради того, чтобы забыться.
Уже в грандиозном панегирике искусству, созданном им в романе «Дориан Грей», чуткое ухо услышит нотки этой глубокой разочарованности во всемогуществе искусства. Более отчетливо звучит эта тема в сказке «Рыбак и его душа», еще более отчетливо — в письме из тюрьмы. И даже те, внутренний слух которых весьма нечувствителен, слышат эту тему в маленькой притче «Рассказчик», дошедшей до нас благодаря другу Уайльда, Андре Жиду. Человек, который видит окружающий мир не более глубоко, чем любой из нас — таково содержание притчи, — хорошо рассказывает невероятные истории о всем увиденном им. И вот однажды, увидев действительно удивительное — фавнов, сильфов и сирен, он замолкает, теряет свой дар рассказчика. Вот она, горькая истина: живущий реальной жизнью не рассказывает, не творит, не может уйти в область искусства. Лишь тот, кто не живет полнокровной жизнью, лишь человек с раздвоенным сознанием пытается найти в искусстве то, что вдохнуло бы жизнь в его пустое существование, сделало бы его существование содержательным.
Следовательно, это страстное стремление к целостности, к религии, к гармонии личности — лучшее и неподдельное в Оскаре Уайльде. Это страстное стремление с перебитыми крыльями, это стремление, задыхающееся в проклятом разочаровании — действительно трагичное в его сущности.
Эта злосчастная раздвоенность между желанием и неспособностью верить во всеумиротворяющий идеал роднит между собой Генриха Гейне и Оскара Уайльда.
2. Общее отношение к искусству
Ни Гейне, ни Уайльд не творили из внутренней потребности за исключением разве тех случаев, когда их заставляло высказаться то страстное стремление, о котором мы только что говорили. Как ни могучи были их таланты, все же в их произведениях не чувствуется дыхание того чистого, высокого вдохновения, которое заставляло творить, например, Гёте, Клейста, Готфрида Келлера[7]. В недобрый час Гейне мог написать и такое: «В конечном счете поэзия всего лишь красивая безделушка». И в то же время, имея склонность убивать все окружающее своими ироническими афоризмами, искусство они воспринимали со всей серьезностью.
Оба не раз пытались проанализировать свое отношение к сущности искусства. Во всем существенном их взгляды на искусство полностью совпадают.
Прежде всего, оба совершенно отделяют личность художника от его творчества. Гейне неодобрительно высказывается о тех литературоведах, которые пытаются найти связь между личностью автора и его произведениями, они «лишают стихотворение девственности»; Уайльд же утверждает: «То, что иной писатель — отравитель, ничего не говорит против его прозы. Семейные добродетели никакого отношения к искусству не имеют»[8].
Для обоих искусство — самоцель, для обоих — оно нечто противопоставляемое жизни, действительности. Вот как говорит Гейне: «Дагерротипия свидетельствует против ложного взгляда, будто искусство есть подражание природе. Природа здесь сама доставила доказательство того, как мало она понимает в искусстве, каким жалким получается все у нее, когда она начинает заниматься искусством» («Мысли, заметки, импровизации». — перев. Е. Лундберга). Уайльд пишет: «Искусство представляет лишь само себя; независимое, оно живет точно так же, как мысль, замкнутой жизнью и развивается совершенно органически», или «Истинным учителем искусства является не жизнь, а искусство». Таким образом, как сама собой разумеющаяся напрашивается мысль: все материальное обоим писателям представляется совершенно не стоящим внимания. «Изображает ли кто-нибудь сыр с гнильцой, — читаем мы у Оскара Уайльда, — или прекрасную Елену — одно и то же, если это изображение — искусство». И Гейне с восхищением отзывается о испанцах, «которые в равной степени получали наслаждение от любой хорошей картины, безразлично, что на ней изображено, — мальчишка ли попрошайка, ищущий у себя насекомых, или благословенная дева Мария». Искусство для них — форма, искусство для них — стиль. «В искусстве, — поучает Гейне, — форма — все, материя — ничто. Штауб (знаменитый парижский портной) независимо от того, чей материал, его или заказчика, берет за фрак одну и ту же цену. Он берет деньги лишь за фасон, материал же дарит».
В теснейшей связи с таким подчеркиванием примата формы находится безусловно аристократический характер их поэзии. Они любят пышность, богатство, стильное изящество, драгоценное, редкое, охотно и свободно обращаются к древним, благородным культурам. Никто не славословил изящество такими тщательно отшлифованными словами, как Уайльд в «Дориане Грее», а иронии Гейне не заглушить его гордости своим родом, перерастающей подчас в дифирамбы. Редкий писатель так вдохновенно, так тонко высмеивал вульгарное, плебейское, как Гейне, как Уайльд, редко кто бросал в светскую или литературную чернь слова, полные такой издевки, такой жгучей ненависти, как Гейне или Уайльд. «Демократическая ненависть к поэзии, — глумится Гейне. — Парнас следует срыть до основания, сравнять, на месте его проложить макадам[9], и там, где некогда карабкался в высь досужий поэт, подслушивая соловьев, вскоре ляжет ровная столбовая дорога, пройдут железнодорожные рельсы» («Мысли, заметки, импровизации». — перев. Е. Лундберга). Или: «Демократия ведет к гибели литературы: к свободе и равенству стиля». Ему же принадлежит блестящее выражение: «В мире поэтов — tiers etat (третье сословие. фр.) не приносит пользы, оно вредно».
Оба они — до мозга костей романтики. Они ненавидят повседневность, действительность. В сатирах, в гротесках они искажают будничные события, будничных людей, высмеивают все устаревшее, все традиционное. Они любят новизну, все отличающееся от вчерашнего, все необычное. Любят костюм, жест, маску, театр, все изысканное, непривычное, труднодоступное. Общечеловеческому они предпочитают странное, диковинное, несвойственное человеку. Их излюбленной областью является область сновидений, привидений, противоестественного. Больше всего ценят они внешность, позу. Без всякого стеснения готовы они пожертвовать содержанием ради оболочки. Уайльд договаривается до парадокса: «Лишь поверхностные люди принимают поверхность за что-то поверхностное». Так подчас они оказываются похожими на того стендалевского самоубийцу, который перед тем, как выброситься из окна, думал о том как бы упасть на мостовую поизящнее.
Их искусство — романтично. Они ненавидят все мещанское, буржуазное и своим принципом избрали epater le bourgeois (эпатаж буржуа. — фр)[10]. Они любят играющее всеми цветами радуги очарование большого преступления. Они ненавидят простое, здоровое. «Основная черта нынешних поэтов, — издевается Гейне, — здоровье, вестфальское, австрийское, даже венгерское здоровье». И они любят нежное, болезненное, извращенное.
Они — романтики. Выразительное для них — искусство низшего разряда, и Гейне полагает, что, упрекая греков и Гёте в выразительности, он принижает их. Краски и звуки любят они больше всего. Они предпочтут изнасиловать, изуродовать мысль, образ, но не откажутся от красок, звучаний. Они ненавидят бесцветность и испытывают ужас перед скукой.
Собственно предмет им часто вообще безразличен. Подобно искусным адвокатам, они могли бы защищать любое из двух противоположных мнений. Ничто не внушает им глубокого благоговения, ни к кому не испытывают они уважения и к себе также.
Они — не великие творческие личности. Иные их внезапные идеи поражают своей силой, но тут удивительно подходят слова Грильпарцера[11]:
Внезапные идеи — неглубокие мысли.
Глубоким мыслям присущи границы.
Внезапная идея не знает границ,
Исполнение же ее — топчется
на месте.
Тщательно продумать, построить логические заключения, гармонически скомпоновать несколько мыслей — на это им недостает энергии. Поэтому они и не решаются работать на новом материале, хотя и могут придумать интересную фабулу. Я вспоминаю о том, как Гейне своими произведениями «Тангейзер» и «Летучий голландец» помог Рихарду Вагнеру[12].
Понимая свою слабость в композиции, Гейне и Уайльд предпочитают обращаться к унаследованному от старых мастеров материалу, уже композиционно обработанному, они ограничиваются тонкой отделкой частностей. На вопрос, является ли разделение труда в сфере духовного творчества плодотворным, Гейне отвечает утвердительно: «Шедевр можно создать только так». И он ссылается на Гомера, на Шекспира, на Гёте, которые для своих произведений весьма часто заимствовали материал у предшественников. И Уайльд использует, как известно, как раз для своих наиболее совершенных творений материал и даже основные контуры чужих работ: для «Флорентийской трагедии» — новеллу из книги Страпаролы[13] «Piacevoli notti» («Приятные ночи»), для романа «Портрет Дориана Грея» — рассказ Эдгара Аллана По и роман Бальзака «Шагреневая кожа», для «Саломеи» — повесть «Иродиада» Гюстава Флобера.
Гейне и Уайльд мелки в своих больших полотнах, велики в небольших произведениях. Им не удаются многоактные драмы, длинные рассказы, но они непревзойденные мастера афоризма, баллады, они неподражаемы в описании мгновения — Гейне — как лирик, Уайльд — как автор одноактных пьес, короче, в любом малообъемном произведении. Во всем, относящемся к технике художественного творчества, они тонкие ценители, высокоэрудированные знатоки. Они высказывают смелые суждения о новых картинах, о поразительно красочных характеристиках, о верности чувству стиля, о захватывающих контрастах, о грациозной элегантности, о тончайшей культуре речи. Они могут добиться любого желаемого ими эффекта в малом, и даже — как раз это представляется мне триумфом их виртуозности — средствами чрезвычайно рафинированной, сложнейшей техники они умеют создать впечатление предельной простоты, глубокой трогательности.
Каждый из них — в разладе с собой: они начисто лишены чувства юмора, но зато владеют блестяще отточенной остротой, такой зловеще жалящей остротой, какая в мировой литературе давалась разве что еще Аристофану, Аретино, Сервантесу, Рабле, Гриммельсгаузену, Бомарше, Вольтеру, Лессингу и Ибсену.
С равной уверенностью выискивают они и находят все смешное в объекте своего наблюдения или все, что есть в нем хорошего. Никогда не рассматривают они художника или художественное произведение как нечто целое, всегда лишь — его достоинства или недостатки. Как критики они предвзято односторонни. В критике наиболее удается им то же, что и в оригинальных произведениях. Центр тяжести в их критике — форма. Уайльд пишет блестящее эссе, основная мысль которого в том, что «отталкиваясь от обсуждаемого художественного произведения, критик должен создать свою оригинальную работу» и в тонкой сатире «Портрет мистера WH»[14] высмеивает пороки профессиональных литературных исследований. Представления же Гейне о критике исчерпывающе выражает его афоризм по поводу «Истории литературы» Гервинуса[15]: «Задача заключалась в том, чтобы передать без остроумия в толстой книге то, что Гейне дал в маленькой книжечке с большим остроумием: задача решена правильно».
Показанные нами общие для обоих писателей черты по отдельности ничего не говорят, собранные же вместе — говорят о многом. Попытаемся же найти в этих частностях общность.
Итак, мы установили: общим для обоих писателей являются уверенность в абсолютной независимости творчества художника от его характера, уверенность в самоцели поэзии, презрение к материалу, благоговение перед формой; общим для их творчества являются основные черты романтизма: аристократический характер, пренебрежение к общечеловеческим чувствам, пристрастие к необычному, болезненному, к извращению, преклонение перед краской, музыкой; общим для них, далее, являются неспособность создать большое художественное полотно, высокое мастерство в исполнении малообъемных произведений, виртуозная техника, недостаток юмора, блестящее остроумие, высокий дар художника-критика.
Вот отдельные слагаемые исследования: каков же итог? Гейне и Уайльд — выдающиеся мастера искусства. В их работах, в звучании их слов, в строении их фраз — нет ни одного изъяна; гармония их стихотворений безупречна. Однако добросовестное прилежание, с которым они описывают людей и вещи, не согревает объекты их наблюдения, оно лишь освещает их. Писатели повествуют о людях, о предметах удивительно красивыми, красочными, пожалуй, даже, если хотите, теплыми, живыми словами, но элементы творчества при этом отсутствуют. Они говорят обо всем умно и возвышенно, они оценивают, критикуют, но не формируют, не создают. Писателям недостает любви к созданным ими образам, чтобы наполнить их жилы кровью своего сердца. Никогда чувства не говорят в их образах, нет, образы лишь говорят о чувствах. Это к Гейне и Уайльду относится сказанное однажды Гейне о Лессинге: «Есть люди, к которым все приходит извне, так называемые таланты… Ничего нет в их сознании, что они восприняли бы не своими органами чувств. Но есть также люди, все творчество которых духовно, это гении, Рафаэль, Моцарт, Шекспир, роды которым даются труднее, чем так называемым талантам. У тех — поделки без жизни, без сокровенной сущности, механизм, у этих — органичное создание». В любом произведении Гейне и Уайльда обнаруживаются следы критики, всегда в них что-то определяется, подвергается психологическому анализу. Оба писателя исключают жизнь из сферы искусства: их искусство уподобляется тому лишенному души рыбаку, о котором рассказал Уайльд.
Естественно, это не категорическое утверждение. Конечно, в сочинениях обоих художников иной раз и звучат нотки чистейшей поэзии. Но эти отдельные исключения не противоречат основному характеру литературного творчества писателей. Поклонникам обоих писателей можно, пожалуй, сделать уступку, признав, что Гейне и Уайльд занимают некое промежуточное положение — между талантами и гениями, имея в виду определение, данное самим Гейне: «Гений творит синтетически, талант — аналитически. Однако имеются и такие характеры, которые в этом смысле могут быть и гениальными и талантливыми».
Гейне и Уайльд очень хорошо понимали, чего они стоят как творческие личности. Они были слишком тонкими ценителями и большими эрудитами, чтобы достичь высот поэтического творчества. Как ни парадоксально это звучит, они терпели крушение, разбиваясь о скалы своего мастерства. Или, пользуясь терминологией Гейне, я мог бы сказать, что они были слишком большими художниками, чтобы стать великими поэтами.
Все, что у Гейне, у Уайльда исходит от души, должно сначала совершить окольный путь — через рассудок. Их искусство в конечном счете представляет собой опоэтизированную критику.
Это и является общим в их искусстве: их поэзия — поэзия рассудка, а не сердца.
Мы видим, что противоречие между сердцем и рассудком, противоречие, которое делает их жизнь трагической, подтачивает также и их искусство. Болезненно разросшийся критицизм этих художников побудил их ради сохранения чистоты своего искусства отдалить, изолировать его от своей жизни. Мефистофельская шутка мирового духа — ибо как раз эта изоляция творчества от жизни не позволяет им достичь высот искусства.
3. Общее в литературном положении
Характер произведений Гейне и Уайльда последовательно космополитичен. Оба поэта во всем интернациональны. Оба любят Париж, самый интернациональный город мира, французскую литературу, которую очень хорошо знали и которой обязаны были богатейшими источниками и стимулами к творчеству, безупречно владели французским языком, на котором бегло говорили и легко писали. Как известно, некоторые прозаические произведения Гейне, «Саломея» Уайльда появились сначала на французском. Интернациональный характер их поэзии подтверждается тем, что ни один немецкий поэт, ни Гёте, ни Шиллер даже, не популярен так за границей, как Гейне, и что после Шекспира и Байрона Уайльд — самый читаемый за пределами Англии английский автор. Ни одному немецкому поэту так не везло с хорошими переводчиками, как Гейне, ни один англичанин девятнадцатого века, ни Байрон, ни Диккенс не был так хорошо переведен на другие языки, как Уайльд. Общим в литературном положении обоих писателей является это преодоление национальных барьеров.
Характерное для обоих пренебрежение содержанием является причиной другой общей черты. Считая себя вправе использовать для творческой обработки любой материал, они ввели в мировую литературу новые сюжеты. Вслед за Рихардом Майером[16] можно утверждать, Гейне впервые открыл поэзию моря и вновь вернул миру поэзию физических страданий. Он популяризировал также — правда, не открыл — поэзию мелких, грязных, низких порывов души, поэзию тех чувств, которые каждый хочет сохранить в тайне, поэзию мелких грешков. Уайльд со своей стороны с неслыханной дерзостью открыл для поэтического искусства область половых извращений. Этому открытию можно удивляться, можно его проклинать, но как с литературным фактом, с ним не считаться нельзя, ибо за первооткрывателем в эту новую область последовали писатели всех национальных литератур.
Столь характерные для Гейне и Уайльда пренебрежение содержанием и пристрастие к остротам позволяют провести дальнейшие параллели: и тот, и другой использовали весьма своеобразно романтическую иронию. Многие их поэтические произведения до последней фразы апеллировавшие к чувствам читателя, неожиданным заключительным оборотом приобретают совершенно новое звучание, воздействующее на рассудок читателя. Я имею в виду знаменитые «циничные» концовки стихотворений Гейне, заключительную часть «Флорентийской трагедии» Уайльда. Если быть объективным к своеобразию творчества Гейне и Уайльда, то эти концовки, весьма быстро нашедшие себе подражателей, не следует рассматривать как произвольные, вычурные придатки к произведению; нет, это органичные составные элементы произведения, это его мозг, его сущность.
Итак, лиризация острот, скептицизма, взятая Гейне и Уайльдом на вооружение, очень быстро нашла распространение у подражателей. Но нельзя не признать, что это влияние принесло с собой серьезную опасность. Многие переняли у поэтов внешнее в методе, не поняв силы абсолютного господства форм, решив, что располагая таким оружием, они смогут опоэтизировать любую мысль. Но несмотря на кажущуюся небрежность как раз подобное искусство особое внимание уделяет форме, и если в форме не удается достичь самых больших высот, оно полностью теряет свою ценность. Вот и получилось, что многие литературные приемы, заимствованные иными подражателями у Гейне (для лирики) и у Уайльда (для драмы), использовались ими как фабричное клеймо для порнографических произведений самого низкого сорта. И Гёте оказался прав, сказав однажды о Гейне: «Он — Б-жество тех, которые охотно стали бы такими же отрицательными личностями, как и он, но не имеют к этому таланта». Создав шаблоны, с помощью которых мысли, лишенные всяких чувств, облекаются в форму лирических стихотворений, Гейне способствовал массовой фабрикации низкопробной лирики. Создав шаблоны, с помощью которых о любой женщине можно написать неоромантическую драму, Уайльд открыл шлюзы бурному потоку низкопробных неоромантических драм. Поистине ироническое стечение обстоятельств — богатое, насквозь аристократическое искусство этих двух художников способствовало тому, что на Парнас вскарабкалась целая толпа ординарнейших плебеев.
Конечно, Гейне и Уайльд, так настойчиво подчеркивая всем своим творчеством формальные принципы, чрезвычайно много сделали для развития литературной культуры. Никому из немецких лириков не удавалось создать чарующих ритмов, подобных тем, которыми так богаты стихи Гейне. И ни одному немецкому прозаику, да и французскому тоже, не удалось устоять против влияния его изысканной прозы, полностью отвечающей идеалу Ницше: приблизиться насколько возможно к поэзии, но не оказаться в ее пределах. Аналогичное можно сказать о прозе Уайльда и английской литературе. Если у нас сейчас есть фельетонисты, произведения которых можно отнести к большой литературе, то в этом прежде всего заслуга Гейне и Уайльда. Их в первую очередь мы должны благодарить за то, что импрессионизм проник в критику. Многие первоклассные критики опирались и опираются на их наследие.
Перейдем же теперь к основному признаку, характеризующему общность в их литературном положении.
Представим себе, что историк литературы, смотрящий поверх барьеров национальностей, пишет историю европейского романтизма девятнадцатого века. Было бы чрезвычайно интересно проследить за всеми приливами и отливами романтизма в европейской литературе. Он не обнаружит, по-видимому, различия между старшими и младшими романтиками и едва ли найдет в девятнадцатом веке хотя бы десятилетие, в котором ни одна из европейских литератур не находилась под господствующим влиянием романтиков. Да, вероятно, окажется, что сильное натуралистическое течение семидесятых-восьмидесятых годов не что иное, как искаженное, замаскированное романтическое движение.
И станет очевидным: Генрих Гейне, Виктор Гюго, Фридрих Ницше, Оскар Уайльд, все эти художники — титаны европейского романтизма.
Тотчас же обнаружится, что между Гейне и Уайльдом и здесь можно провести самые близкие параллели. Среди этих четырех именно они являются представителями рассудочного искусства. Среди романтиков девятнадцатого века именно они являются художниками, в совершенстве владеющими техникой формы.
Мы наблюдаем здесь цепочку культурной преемственности. Как во многом другом, и здесь Уайльд завершил начатое Гейне. И если позволительно назвать Гейне Иоанном нашего раннего романтизма, то Уайльда — какое многозначительное совпадение дат смерти Гейне и рождения Уайльда (1856 год!)[17] — мы смогли бы считать мессией этого направления.
И в «Романтической школе» Гейне мы читаем:
«Большое сходство двух поэтов состоит, пожалуй, в том, что их поэзия по существу была болезнью. С этой точки зрения было установлено, что их произведениями следует заниматься не критикам, а врачам…
Однако имеем ли мы право на подобные замечания, ведь мы и сами-то не очень можем похвастаться здоровьем? И именно сейчас, когда литература подобна большому лазарету? А может, поэзия — это болезнь человека, как жемчуг, собственно, является болезненным наростом, из-за которого страдает несчастный моллюск?..»
Перевод, публикация и примечания Льва Миримова, http://www.lechaim.ru/ARHIV/106/geyne.htm
Первая публикация исследования — в журнале «Шпигель» № 12, 1908, Мюнхен. - http://www.lechaim.ru/ARHIV/106/geyne.htm
Примечания
[1] Строка из Сатиры 8 Ювенала. Существует два опубликованных перевода этой сатиры:
Строки 84 и 85:
Высшим сочти беззаконием честью
пожертвовать жизни
И из желания жить основание жизни утратить.
Пер. Андрея Адольфа 1888
Высшим грехом почитай предпочесть
сохранение жизни –
Чести и тем потерять ради жизни — весь
жизненный корень
Пер. Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского 1937
[2] Обвиненный в безнравственности в 1895 году, Уайльд был осужден на два года каторжных работ. По некоторым данным (в частности, по Британской энциклопедии) процесс был спровоцирован лордом Квесберри в отместку за напечатанный на него Уайльдом памфлет. Книги писателя были изъяты из всех библиотек, его пьесы — сняты со сцены. Первые месяцы писатель провел в одиночной камере Уэнсвортской тюрьмы. Это было самое тяжелое время для него. Затем Уайльда перевели в Рэдингскую тюрьму, которую он обессмертил, написав по выходе из нее «Балладу о Рэдингской тюрьме». Ни один журнал не согласился напечатать поэму. Автор выпустил ее отдельной книжкой (февраль 1898) за подписью С33 (номер, под которым он числился, когда был арестантом). Публиковать под своим именем ему было запрещено. После выхода из тюрьмы писатель уехал во Францию и жил в г. Дьеппе под чужим именем. В Рэдингской тюрьме Уайльд пишет тюремную исповедь в форме послания к тому из своих великосветских друзей, кого считал виновным в разразившейся над ним катастрофой. Исповедь писателя публикуется посмертно под названием «Из бездны».
[3] Религиозно-мистическими настроениями пронизаны ранние стихотворения поэта, объединенные в цикле «Юношеские страдания».
Гейне-юноша безнадежно влюбился в свою двоюродную сестру, дочь банкира С. Гейне, отвергнувшую его ради выгодного брака с помещиком Фридлендером. Сонет «Я сам предстал в виденьи сонном…» (1821) сюжетно связан с обручением Амалии с Фридлендером.
Гейне одно время был связан с обществом, ставящим перед собой цель сравнить образование молодого еврейского поколения и христиан, препятствовать по возможности обособлению евреев в языке и нравах.
[4] Бимини — небольшой островок Боготского архипелага (Вест-Индия). Поэма «Бимини» (написана после 1851 года) — о ключах молодости, об острове вечного счастья. Поэт находит этот остров. Заключительные строфы поэмы приводятся в переводе В. Левика.
… Наконец пришли в страну, —
В ту страну, в предел печальный,
В тень угрюмых кипарисов,
Где шумит река, чьи волны
Так чудесны, так целебны.
Та река зовется Летой.
Выпей, друг, отрадной влаги
И забудешь все мученья,
Все, что выстрадал, забудешь.
Ключ забвенья, край забвенья!
Кто вошел туда — не выйдет.
Ибо та страна и есть
Настоящий Бимини.
[5] Шеффер, Ари (1796-1858) — французский исторический художник.
[6] Гуго фон Гофмансталь (1874-1929) — австрийский поэт, прозаик, драматург. Мысль о том, что Уайльд предвидел свою судьбу, высказывалась многими. Так, Андре Моруа в лекции «О биографии как художественном произведении» напомнил, что Оскар Уайльд как-то заметил, что жизнь, для того чтобы быть прекрасной, должна окончиться неудачей, и привел в пример жизнь Наполеона, доказав, что, не будь ссылки на остров Св. Елены, она утратила бы весь свой трагизм.
[7] Клейст, Генрих фон (1777-1811) — немецкий драматург, новеллист.
Келлер, Готфрид (1819-90) — швейцарский немецкоязычный писатель.
[8] В письме редактору журнала «Шотландское обозрение» от 09. 07. 1890 Уайльд писал: «Для поэта вообще нет нравственного кодекса. Добродетель и порок для него то же самое, что для живописца краски на его палитре <…> Яго может быть чудовищем порока, а Имогена беспорочно чиста. Но, как сказал Китс, Шекспир испытывал такую же радость, создавая образ Яго, как и творя Имогену».
[9] Здесь — мостовая, выполненная способом, при котором поверх слоя крупных камней насыпается несколько слоев мелкого щебня, утрамбовываемых тяжелым катком. Названа по фамилии инженера-изобретателя Мак-Адама.
[10] К. Чуковский в очерке «Оскар Уайльд» пишет об экстравагантном, «эстетском» костюме поэта, рассчитанном, чтобы «привлечь к себе внимание публики: короткие штаны до колен, черные длинные чулки, бархатный золотистого цвета пиджак, украшенный огромным цветком в бутоньерке (порой лилией, а порой и подсолнечником) и при этом каштановые кудри до плеч, немыслимые в тогдашнем английском быту».
[11] Грильпарцер, Франц (1791-1872) — австрийский драматург, поэт, критик.
[12] Поэма «Тангейзер» (1836) — свободное переложение немецкой народной баллады — была использована Р. Вагнером при создании оперы (1843–1845). По народным преданиям и новелле Гейне «Летучий голландец» Р. Вагнер написал оперу (1841).
[13] Страпарола, Джан Франческо (последняя четверть XV века — после 1557) — итальянский писатель. Книга «Приятные ночи» представляет собой собрание новелл, анекдотов, загадок (75 миниатюр). Книга попала в Индекс, издавалась с большими купюрами. К. Чуковский в упомянутом очерке об Уайльде пишет: «Его роман “Портрет Дориана Грея” изумительное подражание Бальзаку и Гюисмансу, в его сказках много Андерсена, его знаменитая поэма “Дом блудницы” есть сочетание Эдгара По с Бодлером».
[14] «Портрет мистера WH» (1887) — новелла, своеобразная литературная мистификация, объявляющая адресатом сонетов Шекспира Уильяма Хьюза, юношу-актера, исполнявшего, как это было тогда принято в британских театрах, женские роли. Аргументом в пользу своей гипотезы Уайльд выдвинул тот факт, что актера с этим именем в списках шекспировской труппы нет.
[15] Гервинус, Георг Готфрид (1805-1870) — немецкий историк и политический деятель, создатель культурно-исторической школы в немецком литературоведении. Автор «Истории немецкой национальной литературы» (5 книг, 1835-1842). Вероятно, Гейне, давая отзыв о книге Гервинуса, имеет в виду свою работу «Романтическая школа» (1833).
[16] Майер, Рихард Мориц (1860-1914) — немецкий историк литературы.
[17] Лион Фейхтвангер ошибся, назвав 1856 год годом рождения Уайльда. Эта дата дается и в БСЭ (второе изд.), и в ряде книг об Уайльде. Однако в БСЭ (третье изд.), в немецком Брокгаузе 1974 года издания, в Британской энциклопедии — это 1854 год.
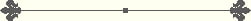
2015– © «Оскар Уайльд»